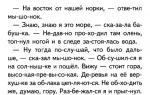Выводы относительно христианской философии. О христианской философии
Важной особенностью традирования философского знания является его зависимость от начальных условий, т. е. от условий его первоучреждения. Философия рождается в Греции как мысль о бытии, причем как мысль авторская, с позиции индивидуума, и в этом качестве философия противостоит мифу с его основанием в коллективном бессознательном. Но в то же историческое время от мифа обособляется политический дискурс полисной демократии и искусство трагедии. В результате складывается сложный комплекс взаимной обусловленности по всем трем направлениям распада мифологического в культурной парадигме Древней Греции. Но еще более сложным случаем неопределенности отношений представляется центральная идеологическая оппозиция античности между греческой мыслью о Бытии и иудейской идеей Бога, поскольку они принадлежат двум различным традициям авторской мысли и относятся к разным культурным парадигмам, во многом исключающим друг друга. Как показал Э. Левинас, еврейская – этическая по сути – мысль о Боге есть такое же первоучредительное действие с позиции индивидуума, как и греческая идея Бытия в интерпретации Хайдеггера. Обе идеи равны в своем первородстве и в значительной степени независимы друг от друга. Тоже самое вслед за Хайдеггером и Левинасом утверждает Деррида, указывая на два понятия, которые не есть в полной мере понятия, т. е. не являются означаемыми. Это Бог и Бытие. Они – продукт особого смыслообразования (не через знак, а через «след»). Но если Бог и Бытие принадлежат разным парадигмам и не сводимы друг к другу, то как возможно христианство, которое не мыслимо без их связи? Здесь возможен, конечно, самый радикальный ответ, что христианство является незаконным продуктом античности, его культурная идентичность иллюзорна, а мы по-прежнему живем в греко-иудейском мире. Иногда именно так интерпретируют мысль Деррида. В данной небольшой статье я хочу представить некоторые предварительные соображения в пользу иного мнения, т. е. в пользу христианства как парадоксального, но целостного мировоззрения. Для начала выделим три способа задавать проблемный контекст размышлению о христианстве, а именно, исторический, теологический и философский.
История.
В данном контексте, прежде всего, возникает необходимость различать, по крайней мере, три типа исторического христианства. 1. Назарейская ересь или христианство Иакова. С точки зрения современных исторических данных, весьма вероятно, что именно Иаков, брат Иисуса, а не Петр возглавил движение после смерти сводного брата [Тейбор 2007, 283]. Следами этого христианства в тексте Библии являются, во-первых, Евангелие от Марка, которое в аутентичном (самом древнем варианте) заканчивается на 8-ом стихе 16 гл., в этом варианте ничего не говорится о свидетельствах воскресения Христа; во-вторых, послание Иакова, в котором прямо не упоминается воскресение, и нет противопоставления закона и благодати. В целом этот вариант христианства можно отнести к радикальной разновидности апокалиптического мессианского движения в Палестине I века . 2. Вдохновенная проповедь апостола Павла, в центре которой событие воскресения Христа. Именно к этому христианству стремится вернуться Лютер, Кьеркегор и неоортодоксальная теология ХХ века. Оно представляется наиболее интересным и с философской точки зрения. 3. Соборное христианство, провозгласившее «омоусиос» и тринитарность Бога. Отмечу, во-первых, что, как было показано исторической критикой, данные догматические формулы не находят подтверждения в тексте Писания. Единственное упоминание тринитарной формулы (Мф. 28, 19) было добавлено не ранее начала V века. А наиболее отчетливое утверждение единосущности Иисуса и Бога в начале евангелия от Иоанна – «И Слово было Бог», требует уточненного перевода. Так, Новая Английская Библия дает такой вариант – «And what God was, the Word was» («И чем был Бог, тем было и Слово»), что, по мнению исследователей, означает скорее подобие (предельно возможное), но не тождество [Робинсон 1993, 52]. Во-вторых, связав Бога откровения с проблемным контекстом Бытия греческой философии, соборное христианство подчиняет мысль о Боге тому, что Хайдеггер назвал онто-тео-логической структурой метафизики. Это, с одной стороны, безусловно, искажает ветхозаветную идею Бога, а с другой, чуждо живому опыту евангельской веры. Именно к такому метафизическому Богу относятся слова Ницше – «Бог умер».
Теология.
С точки зрения заявленной темы для размышления, весьма показательным представляется путь, который проделала в ХХ веке протестантская неоортодоксальная теология. В целом содержание этой новой теологии часто и справедливо характеризуют как «восстание против имманентности», поскольку для нее принципиальна трансцендентность Бога, причем в новом, не ветхозаветном смысле, который в свою очередь связан с негреческой философией бытия, предложенной С. Кьеркегором. Однако важно, что в результате проделанного пути неоортодоксальная теология пришла к отказу от философских толкований Бога, к борьбе за чистоту богословского метода и принципиальной критике экзистенциализма как мировоззрения.
Парадигмальным текстом новой теологии стал труд К. Барта «Послание к Римлянам». Для того, чтобы быть конкретным, остановлюсь на одном ключевом фрагменте этой книги. А именно, на комментарии Барта к 7-ой главе послания, краткая суть которой сводится к утверждению: Закон свят, но грех, живущий во мне, производит смерть через закон. С точки зрения Барта, грех – это, прежде всего, фундаментальная необходимость человеческого бытия и одновременно ключевое понятие христианской веры. Он цитирует Лютера: «Тот не христианин, у кого нет греха или кто его не чувствует; если ты найдешь такого, то он антихрист, а не истинный христианин» [Барт 2005, 243]. В интерпретации данного фрагмента послания Барт так излагает свое понимание религии:
«Что такое религия, если она, хотя и проявляется как высшая ступень в рамках царства греха, не идентична греху? Очевидно это возможность, перед лицом которой все человеческие возможности вступают в свет радикального кризиса, перед лицом которой грех становится видимым и познаваемым» [Барт 2005, 221]. И далее, с почти ницшеанским пафосом: «Смысл религии – это смерть… Религия это все, что угодно, но не гармония с самим собой или, чего доброго, с бесконечным. Здесь нет места для благородных чувств и великодушной гуманности… Здесь пропасть, здесь ужас. Здесь видны демоны (Иван Карамазов и Лютер!)» [Барт 2005, 232].
В целом можно сказать, что грех понимается как фундаментальный экзистенциал, в структуре которого мы определяем свою жизнь, причем, как замечает Барт, делаем это «абсолютно невыносимым образом», поскольку мы должны совершить практически невозможный выбор – либо забыть о Боге, либо отказаться от своего я, признав, что «Он (Христос), а не я, есть мое экзистенциальное “я”, то я, каков я в Боге» [Барт 2005, 250].
На протяжении последних двадцати семи лет своей жизни Барт пишет многотомную (13 томов) «Церковную догматику», в которой пытается очистить систематическое богословие от экзистенциализма. Теперь, по мнению Барта, ничто в человеческом бытие не говорит нам о Боге. Бог есть тайна, которая сама открывает себя человеку. Фактически для человека Бог и его откровение есть одно и то же. А поскольку главное откровение Бога выражено в личности Иисуса Христа, «Бог и Иисус Христос – одно». Таким образом, Барт, как бы в обход ортодоксальной формулы «омоусиос», не онтологически, а, скорее, феноменологически обосновывает тождество лиц святой Троицы.
Наиболее последовательно идею Бога и экзистенциальную философию бытия связывал в своей теологии Пауль Тиллих. Согласно ему, Бог не есть «небесная личность», он не в «высоте», а в глубине нашей жизни, он есть ее предельное основание. Подчиняя свою мысль хайдеггеровскому императиву необходимости мыслить бытие отдельно от сущего, Тиллих предлагает различать Бога как сущность (гипотетический Бог ортодоксального богословия) и Бога как силу бытия. Такая сила трансцендентна миру – о ней нельзя сказать, что она существует и одновременно имманентна ему, поскольку мир не может без нее существовать. Многие исследователи признают, что такое понятие имманентной трансцендентности не ясно и противоречиво . Такую критическую точку зрения развивает в своей книге «Бог. Открытый вопрос» современный голландский теолог Антон Хаутепен [Хаутепен 2008].
Другой известный вариант экзистенциальной теологии представлен в творчестве Рудольфа Бультмана. С точки зрения Бультмана, христианское истолкование бытия принципиальным образом совпадает с истолкованием бытия в экзистенциальной философии именно потому, что последнее является, по сути, феноменологической реконструкцией самого опыта христианской веры. Констатируя этот факт, Бультман ставит вопрос о пределах точности такого совпадения. Или иначе, если философия дает истинное истолкование бытия, то что собственно откровение прибавляет к этой истине. В обоих случаях в основе лежит понимание бытия как свершения истины, а истина понимается как трансцендирование, т. е. переход из безличного Мы в личный модус бытия экзистенции как Самости. В обоих случаях истина добывается в решении быть в качестве Я перед лицом смерти . Отличие, однако, состоит в том, что с точки зрения Нового Завета человек всецело и вполне испорчен, так что любое его действие, включая решимость быть Самостью, есть лишь проявление этой испорченности. Поэтому человек нуждается в освобождающем деянии внешней силы.
«Ведь если человек в целом испорчен своеволием, если он знает, что его подлинная жизнь заключается в самоотдаче, но именно к ней он не способен, так как во всех своих начинаниях остается самим собой, своевольным человеком, – тогда его подлинная жизнь становится фактической возможностью лишь при условии освобождения от себя самого. Но ведь именно об этом говорит новозаветное провозвестие; именно в этом смысл события Христа: оно означает, что там, где не в состоянии действовать человек, Бог действует, совершил действие для него» [Бультман 2004, 30].
В целом, Бультман хочет показать, что экзистенциальное истолкование бытия в философии недостаточно, чтобы понять трансцендирование как реальную возможность экзистенции быть по-другому. Иначе говоря, распад Мы как формы бытия-в-мире никак не гарантирует состоятельность бытия Самости. Все равно здесь нужна «вера мира» в то, что такое возможно, а в этом и состоит суть христианского откровения.
Самые радикальные, и потому интересные с философской точки зрения выводы в рамках неоортодоксальной традиции делает ученик Барта – Дитрих Бонхёффер . М олодой теолог полагает, что сам Барт, противопоставляя откровение Бога и экзистенциальную религиозность, остановился на полпути. Нужно дойти до конца и признать, что в современном безрелигиозном мире (а таковой характер мира тоже нужно признать) христианство не может сохранить себя как религию. Бонхёффер пишет:
«Своей “религиозной” проповедью мы можем воздействовать разве что на нескольких “последних рыцарей”, да еще на кучку интеллектуально нечестных людей. Неужели это и есть “малый остаток” избранных? Неужели мы, перебивая друг друга, наступая друг другу на ноги и все более разочаровываясь, обрушимся именно на эту сомнительную группу, пытаясь сбыть наш залежалый товар? Неужели мы набросимся на нескольких несчастных в минуту их слабости, чтобы, так сказать, религиозно их изнасиловать?» [Бонхёффер 1994, 200–201].
Тут, правда, на помощь христианской теологии приходят экзистенциальная философия и психотерапия. Но что они могут? Загнать человека в угол и сказать – «Вот тебе пограничная ситуация, а теперь поговорим о Боге»? По Бонхёфферу, «они доказывают уверенному, довольному и счастливому человеку, что в действительности он несчастен и пребывает в отчаянии и просто не желает замечать этого» [Бонхёффер 1994, 239]. Отвергая экзистенциально религиозное отношение к Богу, Бонхёффер предлагает следующее:
«Наше отношение к Богу не есть “религиозное” отношение к высшему, могущественному, всеблагому существу – это не настоящая трансцендентность; наше отношение к Богу есть новая жизнь в “существовании для других”, в причастности к бытию Иисуса. Не бесконечные, невыполнимые задачи, но ближний, причем всякий раз тот, кто рядом, – это и есть трансцендентность. Бог в обличье человека! Не в обличье животного, как в восточных религиях… но и не в облике абстрактных понятий Абсолютного, метафизического, бесконечного и т. д.; но и не греческий богочеловеческий персонаж “человек в себе”, нет а “человек для других!” – вот почему Распятый. Человек, живущий из трансцендентности» [Бонхёффер 1994, 282–283].
Нужно отметить, что мысль Бонхёффера имеет существенный философский потенциал. Такому теологу нужен философ для содержательного диалога. Бонхёффер находит место, куда поместить Бога в безрелигиозном мире, когда ослабевает сознание греха и человек не нуждается в гипотезе «Бога» для выхода из затруднительных положений. Это место, конечно, не до конца ясно, но приблизительно оно находится между автономным индивидом и институциональной реальностью в некоторой неопределенной сфере со-бытия с другими. В качестве ассоциации или гипотезы на ум приходит «неописуемое сообщество» Бланшо, «непроизводимое сообщество» Нанси или «грядущее сообщество» Агамбена. С моей точки зрения (но не с точки зрения указанных авторов), все эти понятия объединяет общая интуиция, состоящая в том, что наше сосуществование с другими не может стать предметом мысли непосредственно, просто по нашему произволу. Но эта мысль должна быть спровоцирована неким дополнительным событием, и так получилось, что таким событием для нас является мысль о Боге. Подводя итог, подчеркнем еще раз, что для Бонхёффера Бог застает человека не перед лицом «смерти, страдания и вины», но в «средоточии жизни» [Бонхёффер 1994, 233] как состоянии особой осмысленности в «существовании для других».
Говоря о неоортодоксальной теологии в целом, я полагаю, что ей был достигнут ценный, но отрицательный результат. Иначе говоря, идею Бога так и не удалось согласовать с идеей Бытия систематически и непротиворечиво, но, можно сказать, еще раз убедились в их специфической несовместности.
Философия.
Судьба европейской философии существенным образом обусловлена тем, что в определенный момент ее истории произошло изменение позиции философствования. Вначале мы имеем дело с эллинской философией – высокой классикой Платона и Аристотеля. А затем мы сталкиваемся с проблемой, которую описали А. Ф. Лосев, М. Хайдеггер, П. Адо: как сохраняется интеллектуальная традиция античности, неспособная выразить опыт христианства, в христианскую эпоху? Это весьма травматичная ситуация, которая нуждается в осмыслении и сохраняет свою актуальность до сих пор. Философия отрывается от органики жизни, в которую она была вписана в мире античности («забота о себе», эпимелейя и тому подобное). Этот отрыв свидетельствует о том, что философия стала языком, перестав быть опытом. По большому счёту, философия сохранилась лишь благодаря двусмысленности позднеэллинистической и раннехристианской ситуации, когда догматы формулировались посредством заимствования философских концептов. Таков и догмат о троичности, которого в буквальном смысле в Библии нет. С другой стороны, многие ереси также порождались философией. Философия не может поддержать веру, но она в состоянии опровергнуть ереси, построенные на логически неверных допущениях. Утверждавший это Боэций был первым из авторов новой эпохи, сохранивших языческую философию для христианского мира. Его интерпретации весьма далеки от экзистенциального смысла христианского опыта. Например, обращаясь к Халкидонскому символу веры, трактующему сосуществование двух природ во Христе, он различает четыре понятия природы в греческой философии и приводит их латинские аналоги: натура, субстанция, субсистенция, эссенция. Те, кто не понимает соединения двух природ, не видят различия между субстанцией и субсистенцией. По своей субстанции Христос – смертный человек, а по своей субсистенции он – носитель божественной разумности, которой обладал бы Адам, если бы не согрешил (не до греха, но в безгрешности). Но, не обладая такой разумностью, Адам впал в грех [Боэций 1990]. Всё это далеко от буквального смысла догмата, и не нужно быть Хайдеггером, чтобы понять, что такая онтологическая философия неспособна концептуально выразить опыт христианской веры.
Позднейшая интеллектуальная традиция уже более тонко подходит к проблеме, обнаруживая её ядро в понятии греха. С точки зрения христианской установки, все категории человеческого мира, прежде всего свобода, бытие и истина, производны от этого понятия. Именно грех становится основным концептом христианской философии. М. Лютер в полемике с Эразмом приходит к такому выводу: «Я понял, почему ты неправильно понимаешь свободу: ты неправильно понимаешь грех. Грех – это не незнание, как ты полагаешь; но это – ложное знание и гордыня». Иными словами, ты думаешь, что ты желаешь добра, но только не знаешь, как его достигнуть, а на самом деле сама эта твоя уверенность есть не что иное как ложь, порожденная грехом [Лютер 1986]. Концептуализация веры происходит довольно поздно – в немецкой классической философии. В частности, понятие греха концептуально использует Гегель. Остановлюсь на этом моменте более подробно.
Отмечу сразу, что в «Феноменологии духа» концептуализация веры является результатом развития определенного рода антропологической проблематики, причем в двух тематических измерениях. С одной стороны, у Гегеля доминирует тема признания, анализ которой представлен в известных работах А. Кожева [Кожев 2003]. Человек есть признание Другого в двояком смысле. Во-первых, поскольку Другой неочевиден и его необходимо признать и тем самым впервые конституировать. Во-вторых, поскольку для человека неочевиден смысл собственного существования как чего-то устойчивого и необходимого, или смысл единичного как случайно данного. Соответственно, он тоже нуждается в конституирующем признании. С другой стороны, соглашаясь с Кожевым, что признание у Гегеля является фундаментальным определением человека, которое никогда не ставится под сомнение, следует добавить, что подлинной проблемой признания в данном случае является не оно само по себе, но именно взаимность в признании. Взаимность же по Гегелю обретается в откровении, где вера выступает оборотной стороной благодати, и человек признает откровение, только будучи уже признанным, в событии боговоплощения. Признание и смысл единичного как истина субъкта и мира, или субстанции, понятой как субъект, образуют в «Феноменологии духа» два плана, неразрывно связанных и взаимодополняющих друг друга. В центре этого движения мысли находится исполненный драматизма анализ противоречивой двойственности «несчастного сознания». Анализ этот хорошо известен, однако отметим важные с нашей точки зрения моменты. Гегель дважды в «Феноменологии духа» обращается к теме несчастного сознания: в конце IV раздела и в последней части VII. В первом случае кульминации достигает проблематика признания и взаимности. Несчастное сознание интроецирует в себя ту противоположность, которую ранее Гегель персонифицировал как отношение Господина и Раба, т. е. творческого и нетворческого самосознания. Это сознание в своей сущностной двойственности драматически отображает глубинную трансфомацию опыта свободы при переходе от античности к христианству. Несчастное сознание, с одной стороны, переживает себя как свободное и неизменное, а с другой, как случайное и единичное. Но в определенный момент обе части претерпевают трансформацию и приходят к взаимности:
«За то, что неизменное сознание отрекается от своей формы и оставляет ее, а единичное сознание, напротив, воздает благодарностью, т. е. отказывает себе в удовлетворении сознания своей самостоятельности и, слагая с себя, передает сущность действования потустороннему, – благодаря обоим этим моментам взаимного отказа от себя обеих частей возникает, конечно, тем самым для сознания его единство с неизменным» [Гегель 1959, 119].
С моей точки зрения, это следует понимать следующим образом. В опыте несчастного сознания происходит разочарование в античном субстанциональном понимании свободы как действия согласно природе. Подобное понимание, как замечает Гегель уже в VII разделе, не проходит испытания действительностью. Но это разочарование имеет своим следствием не тотальный скептицизм и самоутверждение единичного, а попытку помыслить себя извне своей ситуации в мире как случайного единичного. Что приводит к пониманию случайной единичности под определением негативной всеобщности. По словам Гегеля: «…теперь тут найден враг в наиболее свойственном обличии» [Гегель 1959, 120]. И далее: «Себя как “это” действительное единичное сознание сознает в животных функциях. Последние, вместо того чтобы просто выполняться как нечто, что в себе и для себя ничтожно, и не может обрести важности и существенности для духа, составляют, напротив, предмет серьезных усилий и становятся прямо-таки самым важным делом, поскольку именно в них и обнаруживается враг в своем специфическом обличии» [Гегель 1959, 120].
Нетрудно заметить, что «враг в его собственном обличие» есть не что иное, как евангельское понятие греха, который, согласно апостолу Павлу, есть сила, исказившая мою внутреннюю природу и лишившая действенности мою волю к добру.
Важно, что разочарование в субстанциональной свободе приводит, по Гегелю, не к отказу от действия как такового, но к переадресации ответственности. Теперь за мое действие отвечает тот, с позиции кого моя ситуация в мире определяется как «захваченность» чуждой непрозрачной силой или врагом. Таким образом, отказываясь от собственной свободы «по природе», человек как субъект несчастного сознания получает возможность разделить решение и свободу Другого в той мере, в какой его обновленную самость характеризует сознание греха.
В VII разделе в части, посвященной религии откровения, Гегель возвращается к проблеме несчастного сознания. Как мы видели, идентичность несчастного сознания достигается через опосредование в сознании греха. Но сознание греха, дающее негативную определенность случайному единичному, в свою очередь предполагает осмысленность «случайного единичного» как такового. Или, как выражается Гегель, сознание греха «есть вера мира в то, что дух налично есть как некое самосознание, т. е. как некий действительный человек…» [Гегель 1959, 402]. Главной темой здесь становится боговоплощение или вочеловечение Бога. Суть в том, что боговоплощение является одновременно событием встречи с Абсолютом, которое, распадаясь на две эсхатологические данности – смерти и воскресения, – образует временную структуру феномена веры. Вера, по Гегелю, не просто историческое событие, имеющее свои последствия, но прежде всего новый тип самосознания, а именно, коллективная духовная практика признания неочевидного для каждого члена общины события встречи. Как неоднократно отмечалось, действительностью веры у Гегеля выступает не апостольский опыт, но духовная общность, впервые учреждаемая через признание неочевидного. Именно данное свободное учреждающее признание конституирует актуальный для христианской культуры смысл единичного, и таким образом единичное существование открывает себя как идеальный коррелят исторического процесса или, иначе говоря, как истину мирового целого в его истории.
Гегелевская феноменология веры на первый взгляд никак не связана с темой отношения Бытия и Бога, поскольку собственно трансцендентной идеи Бога в ней нет. Показательно, что в анализе религии откровения Гегель вообще не обращается к Ветхому Завету, сразу переходя от эллинизма к раннему христианству. Тема трансцендентного имеет у Гегеля свой эквивалент – историческое отчуждение. Можно сказать, что Гегель фактически демонстрирует некоторую эффективную стратегию обхода проблемы совместимости Бытия и Бога. Но эта философская стратегия в целом легитимна, поскольку так же, как у Лютера и потом у Барта, главным смыслообразующим фактором выступает сознание греха. Поэтому лучше сказать, что у Гегеля сознание греха связывает феноменологически истолкованную онтологию (идентичность несчастного сознания) с весьма ослабленной, но все же не нулевой идеей Бога. В целом, я бы сказал, что гегелевская философия свидетельствует о гибкости христианской интеллектуальной матрицы в контексте указанной проблемы совместимости.
Современные философы, обращаясь к христианству, причем чем дальше, тем больше, демонстрируют разные варианты гегелевской стратегии. Затронем более подробно случай Алена Бадью. В работе, посвященной философской реконструкции мысли апостола Павла («Апостол Павел. Обоснование универсализма»), Бадью рассматривает мысль Евангелия как актуальный для современной интеллектуальной ситуации опыт представления истины субъективного. Обратим внимание, что введением к его анализу является своеобразная теория дискурсов. В этой теории Бадью определяет специфику христианского дискурса через противопоставление его двум другим, а именно, греческому и иудейскому. Каждый дискурс представляет собой определенную «субъективную диспозицию». Субъективной фигурой греческого дискурса выступает мудрец. Это дискурс мудрости и логоса, посредством которого мыслится тотальность «природы как упорядоченного и завершенного развертывания бытия». Субъектом иудейского дискурса является пророк, и он обращен к трансцендентному потустороннему природной тотальности. Можно сказать, что оба дискурса представляют собой разные способы мыслить мир всеобщим образом. Греческий логос основывает свою всеобщность на аристотелевской интуиции «энергейи», т. е. того, что только действительно и никогда не возможно. Профетическая мысль иудеев, напротив, соотносит мир с Богом, который в данном случае интуитивно схватывается как возможность, превосходящая всякую действительность, как то, что только возможно. Именно в силу различия своей модальности эти два способа мыслить всеобщее, как полагает Бадью, не могут вступить в противоречие: «иудейский и греческий дискурсы суть два лика одной фигуры господства» [Бадью 1999, 37]. Остановимся на этом моменте. Бадью пишет, во-первых, что «согласно логике Павла, надо идти вплоть до того, чтобы сказать: Христос-событие не есть Бог бытия, не есть Бытие <…> Оно (воскресение, – А. И.) есть чистое событие, начало эпохи, изменение соотношения возможного и невозможного» [Бадью 1999, 40–41]. Иначе говоря, это сверхбытийное событие единичного, учреждающее возможность нового универсального субъекта, т. е. возможность для человека мыслить и, соответственно, сосуществовать с другими по-новому. Следствием указанного положения является второе утверждение Бадью: «К сущности христианского субъекта, в силу его верности Христу-событию, относится разделенность на два пути, реализующихся в мысли каждого субъекта <…> Ибо один субъект является в действительности сплетением двух субъективных путей, которые Павел именует плотью и духом» [Бадью 1999, 49].
Путь плоти Бадью в конечном счете истолковывает как сферу отношений господства и подчинения, сферу Закона. В данном случае, для Бадью значима концепция Лакана, согласно который субъект конституируется своей бытийной недостаточностью в дискурсе большого Другого. Другой здесь символизирует безличную фигуру неограниченного Господства, изъятием из которой может быть только безумие. Нетрудно заметить, что Господство легко определить такой формулой, как «признание без взаимности». Действительно, Закон или дискурс Другого требует безусловного признания, но никогда не отвечает взаимностью . В свою очередь, путь духа Бадью интерпретирует как сферу, непосредственно связанную со сверхсущим, событийным измерением единичного, – сферу, где посредством «благодати» взаимность уже всегда имеет место как безвозмездный дар. Соответственно, главная формула, определяющая субъекта, такова: «Ибо вы не под законом, но под благодатью» (Рим. 6,14). «Структурирование субъекта происходит здесь по формуле: “не… но”, которую следует понимать не как состояние, а как становление» [Бадью 1999, 55].
Говоря в целом, с точки зрения Бадью, специфика христианского дискурса состоит в утверждении фундаментальной двойственности истины единичного, мышление которой требует разделения отношений господства и взаимности в общем поле символических практик признания, что производит, в свою очередь, разделенного субъекта. Этот субъект, с одной стороны, изначально вписан в символическое поле распределения господства, где верховной инстанцией в современной ситуации, по убеждению Бадью, выступает Капитал («господство бессмысленной всеобщности капитала» [Бадью 1999, 13]), а с другой, наделен способностью мыслить себя с точки зрения взаимности, как особый случай, исключение из правила в указанном символическом поле.
С точки зрения нашего размышления о Бытии и Боге важно, что, во-первых, Бадью, в отличие от экзистенциалистов, радикально разводит эти идеи в сфере христианской мысли. При этом Бытие существенно утрачивает свое содержание, по сути, оно редуцируется к смерти Христа как «месту» события воскресения. «Смерть есть конструкция событийного места, в том смысле, что она предназначает воскресение (ни как из нее не выводимое) людям, их субъективной ситуации. <…> Только воскресение является данностью события, которое мобилизует место, и его действием будет спасение» [Бадью 1999, 61] . Во-вторых, христианская идея Бога в интерпретации Бадью становится диалектически содержательной, включая в себя, с одной стороны, отрицание ветхозаветной трансцендентности (отделенности), а с другой, «изобретение новой жизни». Но значимость этой диалектики радикально обусловлена тем, что «Бог включается в конститутивное измерение разделенного человеческого субъекта» [Бадью 1999, 61]. Иначе говоря, мысль о Боге у Бадью, как я его понимаю, не объясняет ситуацию человека в мире, и не исходит из какого-либо объяснения подобного рода, как это было у экзистенциальных авторов, но принципиально расширяет ее, привнося новое, можно сказать, избыточное измерение взаимности. С этой точки зрения, Бадью в своем понимании христианства ближе, скорее, Бонхёфферу, чем Тиллиху и Бультману.
В целом случай Бадью весьма показателен для современных философских попыток переприсвоения усилий христианской мысли в условиях очевидного дефицита смысла в культуре. Но, по моему мнению, современная философия просто меняет локализацию христианских смыслов, помещая их в сферу секулярной субъективности, и не задумываясь о природе их совместности. Проблема в том, что после хайдеггеровской критики метафизики нужно признать событийный характер мышления. Бог и Бытие – это изначальные имена мысли. Субъект таким изначальным именем не является, хотя посредством этого понятия открывается возможность новых смысловых комбинаций. Однако хочу заметить, что первичная возможность таких комбинаций заложена в христианской культурной матрице, а не в понятиях, изобретенных Декартом или Лаканом.
В заключение хочу подвести некоторый итог своих предварительных размышлений. Для меня ясно, что проблема совместимости Бытия и Бога – это фундаментальная проблема традирования философского знания, его зависимости от начальных условий, которые всегда требуют некоторого доопределения в конкретной культурно-исторической ситуации. Современная ситуация после Хайдеггера и неудачи экзистенциальной философии может быть охарактеризована как ослабление Бытия (термин Джанни Ваттимо). Возможно, одним из следствий этого будет усиление идеи Бога, ее роли как смыслообразующего фактора. Не знаю, возможны варианты. Но, во всяком случае, очевидно, что сейчас весьма актуален осмысленный диалог философии и теологии в общем концептуальном поле.
Список литературы
Бадью 1999 – Бадью А. Апостол Павел. Обоснование универсализма. М.–СПб., 1999.
Барт 2005 – Барт К. Послание к Римлянам. М., 2005.
Бонхёффер 1994 – Бонхёффер Д. Сопротивление и покорность. М., 1994.
Боэций 1990 – Боэций. Против Евтихия и Нестория // Боэций. «Утешение философией» и другие трактаты. М., 1990. С. 167–189.
Бультман 2004 – Бультман Р. Избранное: Вера и понимание. М., 2004.
Гегель 1959 – Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа // Гегель Г. В. Ф. Соч. в 30 т. Т. 4. М., 1959.
Гренц, Ослон 2011 – Гренц Ст., Олсон Р. Богословие и богословы ХХ века. Черкассы, 2011. С. 164–190.
Жижек 2009 – Жижек С. Кукла и карлик: христианство между ересью и бунтом. М., 2009.
Кожев 2003 – Кожев А. Введение в чтение Гегеля. СПб., 2003.
Лютер 1986 – Лютер М. О рабстве воли // Эразм Роттердамский. Философские произведения. М., 1986. С. 290–545.
Робинсон 1993 – Робинсон Дж. Быть честным перед Богом. М., 1993.
Тейбор 2007 – Тейбор Дж. Династия Иисуса. М., 2007.
Хаутепен – 2008 – Хаутепен А. Бог. Открытый вопрос. Богословские перспективы современной культуры. М., 2008.
* Статья написана при поддержке РГНФ, грант № 12-03-00613 «Мифопоэзис современности: анализ превращенных форм общественного самосознания».
1 Историк христианства и археолог Дж. Тейбор именно этот вариант считает подлинным историческим христианством [Тейбор 2007, 131–145].
2 Критический анализ теологии Тиллиха см., например: Гренц, Олсон 2011, 164–190.
3 Заметим, что решение, как его вслед за Хайдеггером понимает Бультман, есть особый вид признания, а именно признание того, что ты есть в модусе радикальной возможности, присущей единичному существованию (радикальной единственности жизни по М. Бахтину), и которую невозможно разделить с другими. Можно сказать, что признание как решимость есть предельный случай гегелевского признания Другого, так сказать, момент его исчерпанности, когда признание останавливается в своем коммуникативном движении и по сути означает отказ в доверии.
4 Дитрих Бонхёффер - самый талантливый (по мнению Барта) молодой теолог Германии, казнен нацистами в апреле 1945 г., в возрасте тридцати девяти лет. Его «Письма из тюрьмы» (в русском переводе «Сопротивление и покорность») – уникальный человеческий и богословский документ.
5 Отметим, что «сверхбытийное» в отношении концепции Бадью означает не трансцендентное и ноуменальное, а, скорее, «реальное» в лакановском смысле, – то, в отношении чего конституируется субъект, и что он собой замещает в действительности символических отношений социума.
6 Примечательной иллюстрацией этой простой и в то же время емкой истины является творчество Кафки, в интерпретации Вальтера Беньямина.
7 Интерпретация фигуры Христа и события воскресения у Бадью весьма похожа на адопцианскую ересь VIII века: Христос родился и умер человеком, а потом был воскрешен и усыновлен Богом. Так же в своей книге интерпретирует Христа Славой Жижек [Жижек 2009, 180–182].
© ИСАКОВ А. И., 2012
Ключевые слова: Бог, Бытие, христианство, философия, неоортодоксальная теология, трансцендентное.
Аннотация: Проблема совместимости Бытия и Бога – это фундаментальная проблема традирования философского знания, его зависимости от начальных условий, которые всегда требуют некоторого доопределения в конкретной культурно-исторической ситуации. Современная ситуация после Хайдеггера и неудачи экзистенциальной философии могут быть охарактеризованы как ослабление Бытия (термин Джанни Ваттимо). Возможно, одним из следствий этого будет усиление идеи Бога, ее роли как смыслообразующего фактора. Но очевидно, что сейчас весьма актуален осмысленный диалог философии и христианской теологии в общем концептуальном поле.
A. N. Isakov. God and Being: Christianity and philosophy
Key words: God, Being, Christianity, philosophy, neo-orthodox theology, transcendent.
Annotation: The problem of compatibility of Being and God is a fundamental problem of a tradition making of philosophical knowledge, its dependence on entry conditions which always demand some define in the future in a concrete cultural and historical situation. The modern situation after Heidegger and failure of existential philosophy can be characterized as weakening of Being (Gianni Vattimo"s term). Probably, strengthening of idea of God, its role as sense creation factor will be one of consequences of it. But it is obvious that intelligent dialogue between philosophy and Christian theology in the general conceptual field is very actual at present.
480 руб. | 150 грн. | 7,5 долл. ", MOUSEOFF, FGCOLOR, "#FFFFCC",BGCOLOR, "#393939");" onMouseOut="return nd();"> Диссертация - 480 руб., доставка 10 минут , круглосуточно, без выходных и праздников
240 руб. | 75 грн. | 3,75 долл. ", MOUSEOFF, FGCOLOR, "#FFFFCC",BGCOLOR, "#393939");" onMouseOut="return nd();"> Автореферат - 240 руб., доставка 1-3 часа, с 10-19 (Московское время), кроме воскресенья
Соловьёв Алексей Евгеньевич. Историко-философский анализ феномена "заботы о себе" : Дис. ... канд. филос. наук: 09.00.03, 09.00.13 Ростов н/Д, 2006 160 с. РГБ ОД, 61:06-9/271
Введение
Глава 1. Принцип «заботы о себе» в структуре античной и древнехристианской философии 17
1 .Тематизация связи «дискурсивной философии» с практиками «заботы о себе» 17
2. Принцип «заботы о себе» в структуре античной философии 22
3. Связь стратегий спасения и терапии в стоической форме «заботы о себе» 44
4. Сравнительный анализ стоической и древнехристианской парадигм «заботы о себе» 50
Глава 2. Христианская «забота о себе» и современная психотерапия 78
1. Различие парадигм христианской «заботы о себе» 78
2. Девальвация «заботы о себе» в протестантизме и светская психотерапия 103
Глава 3. Фундаментальная онтология М.Хайдеггера и восточно-христианский этос в интерпретации «заботы о подлинном бытии» 108
1. «Детеологизация» онтологии как аспект «деструкции метафизики» в «Бытии и времени» М.Хайдеггера 108
2. Экзистенциально-терапевтическое прочтение «Бытия и времени» и его «неэкзистенциальная» интерпретация 126
3 Понятия «Innenstehen» («стояние внутри») у М. Хайдеггера и «виутрьпребывание» в восточно-христианской философии: возможность сближения парадигм «заботы о себе» 138
Заключение 146
Библиография 149
Введение к работе
Тема исследования представляет собой историко-философский анализ феномена «заботы о себе» как особой формы «философского существования», в которой философия не только задаёт ценностно-мировоззренческие координаты мышления субъекта, но предстаёт как часть внутреннего усилия субъекта, направленного на изменение своего бытия в процессе познания.
Актуальность темы исследования.
Современная социо-культурная ситуация характеризуется многими мыслителями как кризисная. Культурные тенденции постсовременной эпохи обнаруживают стремление к «освобождению» человека от любой идеологической власти над сознанием. Ценностный нигилизм и беспочвенность «одномерного существования» (Г. Маркузе) вместе с сопутствующим им разрушением традиционных форм социальной организации как на макроуровне (народ, национальность), так и на микроуровне (семья), массовая культура с её гедонистическим и конформистским настроем лишают человека возможности обретения аутентичного бытия. Человеческое лицо стирается как «след на песке», оставляя вместо себя только «безликое имеется» (М. Фуко). В качестве «нормальных» сейчас принимаются формы существования, которые доселе относились к маргинальным: флайер, игрок, бродяга, бесцельно перемещающийся в пространстве (3. Бауман). Экзистенциальная беззаботность и дезориентированность, погружённость в вещизм и отчуждение от аутентичного смысла своего бытия - вот те дефективные формы и способы существования, которые предстают как производное от ценностного и духовного нигилизма современной культуры.
Но если для постмодернистской парадигмы эти социо-культурные тенденции выступают как нечто закономерное, то существует и другая традиция мысли, которая констатирует их негативность, приведшую к
«антропологическому кризису» (С. Хоружий) и даже «антропологической катастрофе» (Ф.Гиренок).)
О нужде современного человека в обретении внутренней почвы, тех ценностей, которые помогут в выработке стратегии индивидуального существования, свидетельствует многообразие психотерапевтических школ и религиозных течений (от традиционных религий до различных сект). Стремление выйти из «неподлинного существования» (М.Хайдеггер), «экзистенциального вакуума» (В. Франкл), «невротического небытия» (Р. Мэй) по-прежнему составляет для человека важнейшим смысл его жизни. В этой связи становится очевидной необходимость тщательного исследования взаимосвязи философии и практик «заботы о себе».
Выяснение экзистенциальных контекстов философского знания и наличия в нём практического измерения, соединяющего дискурсивную философию и «заботу о себе» в некое синкретическое единство, должно способствовать реантропологизации современной философской мысли и восстановлению её статуса как метафизической организации существования человека.
В связи с этим становится очевидной актуальность первоначальной историко-философской реконструкции феномена «заботы о себе». Именно в ходе историко-философского анализа взаимосвязи между дискурсивной философией и практикой «философской жизни» в истории европейской культуры возможно прояснение возможности восстановления этой связи на современном этапе развития философской мысли. Степень научной разработанности темы
В ходе анализа степени разработанности данной темы была обнаружена явная недостаточность историко-философских исследований по ней как в зарубежной, так и в отечественной литературе.
Тематизация феномена «заботы о себе» принадлежит французскому философу М.Фуко, на основе разработок которого вырастает
постмодернистское направление исследований. Представители данного направления (Р. Валантазис, С. Гриффит, Э.Кастелли, Э. Кэмерун, Б.
Малина, Д. Пинсент, В. Уимбуш, Т.Шоу и др.) используют методы сравнительного и кросскультурного анализа в исследовании феномена «заботы о себе», сама же «забота о себе» в этой парадигме чаще всего редуцируется к телесным аскетическим практикам и моральным кодексам, нивелируется её религиозно-мистический контекст.
Несмотря на значительное распространение данного направления исследований на Западе в течение последних двух десятилетий, в отечественных историко-философских исследованиях оно фактически не получило никакой интерпретации, если не считать общей оценки, данной в книге С.С. Хоружего «К феноменологии аскезы» (1998г.), и двух докладов молодого исследователя из Санкт-Петербургского университета Д. А. Бабушкиной «Понимание в структуре «заботы о себе»» (2002г.) и «Античная форма «заботы о себе»: Платон и Плотин» (2004г.).
С.С. Хоружий констатирует односторонность постмодернистского подхода, заключающуюся в универсализации таких принципов постмодернистской парадигмы как «взаимовлияние» и «взаимопересечение» культур, интертекстуальность, нивелирование любых специфических черт исследуемого объекта и др. Вследствие такого восприятия любые исторические формы «заботы о себе» в истории европейской культуры лишаются своих уникальных характеристик и предстают как «ремейки» исходной античной модели. Критикуя постмодернистскую парадигму исследований феномена «заботы о себе», автор предлагает альтернативную модель, основанную на феноменологической методологии. С.С. Хоружий ставит перед собой цель построения «метаантропологии», которая помогла бы найти выход из современного «антропологического кризиса». Однако решение этой глобальной теоретической и экзистенциальной задачи заставляет автора полностью абстрагироваться от исследования любых форм «заботы о себе», кроме православного исихазма, да и то взятого лишь в антропологическом аспекте, что несколько ограничивает историко-философскую значимость его исследований.
В контексте нашей темы также представляют интерес работы Д. А. Бабушкиной, которая, обращаясь к позднему творчеству М. Фуко, даёт краткую реконструкцию его концепции и продолжает начатые им исследования античной формы «заботы о себе» на примере сравнительного анализа практики самопознания в платонизме и неоплатонизме, а также исследования темы «понимания» в структуре «заботы о себе».
Для дифференциации между аскетическими установками языческой и христианской аскезы важны работы С.С. Аверинцева и П.П. Гайденко, хотя феномен «заботы о себе» рассматривается здесь в контексте исследования других проблем: у Аверинцева - это поэтика ранневизантийской литературы, у Гайденко - история становления понятия науки. Интересными в этом плане предстают также размышления А. Н. Павленко о различии между кинической практикой «философской жизни» и христианским юродством.
Для прояснения различия между модификациями «заботы о себе» внутри христианского этоса нужно сказать о творчестве М. Вебера и В. Дильтея. Их работы помогают понять формирование протестантизма как последней исторической формы христианства. А.Бергсон и М. Шелер дают определённый материал для уяснения специфики католического этоса, исследование В. Дильтея проливает свет на наличие влияния стоической философии на идеологов движения Реформации, а М. Вебер показывает присутствие отхода протестантской «заботы о себе» от «первоначального» духа христианства.
Работы по истории философии, истории культуры и истории религии, помогли более рельефно реконструировать аутентичную суть тех или иных исторических модификаций феномена «заботы о себе».
В нашем диссертационном исследовании мы опирались на труды признанных специалистов в области истории античной, средневековой и современной западной философии П. Адо, А.Ф. Лосева, В.Ф. Асмуса, Г.Г. Майорова, В.В. Соколова, A.M. Руткевич, Г.В. Драча, С. П. Липового и др., благодаря чему стало возможным более тщательное и детальное
рассмотрение различных форм «заботы о себе» в в разных историко-культурных условиях и ситуациях.
Не менее важными в контексте нашего исследования явились также труды современных христианских мыслителей, таких как У.Бальтазар, К. Барт, Р. Бультман, архм. Иануарий (Ивлиев), Э.Жильсон, П.Н. Зырянов, П.С. Казанский, еп. Каллист (Уэр), В. Н. Лосский, прот. И.Мейендорф, П.Неллас, П.С. Сидоров, СИ. Смирнов, П. Тиллих, прот. Г.Флоровский, П.Христу, X. Яннарас и др. В творчестве этих авторов раскрывается специфика христианской философии, которая помогает понять специфические черты конфессиональных модификаций «заботы о себе» в лоне христианского этоса.
В контексте изучения современных форм «заботы о себе» мы обратились к творчеству М. Хайдеггера, представителей экзистенциальной терапии Л. Бинсвапгера, М. Босса, Р. Лейнга, Р. Мэя, В. Франкла и др., а также к исследованиям этого течения в докторской диссертации Е.А.Ромек и в статьях Е.В. Золотухиной-Аболиной, В. Летуновского, О.В. Никифорова, СО. Раевского, А.М.Улановского и др.
В ходе анализа философии М. Хайдеггера в контексте «детеологизации» и «ретеологизации» онтологии в ранний и поздний периоды его творчества мы рассмотрели работы отечественных мыслителей В.В. Бибихина, СА. Коначевой, А.Н. Павленко, а также западных исследователей Д. Блоэхля, П. Джонса, Ф. Каппеля, А. Пэджета, Р. Сафрански, Д. Ферпосона и др.
Для прояснения различий во взглядах между восточно-христианской традицией «заботы о себе» и современными психотерапевтическими школами мы обратились к текстам Ф.Василюка, митр. Иерофея (Влахоса), И.Карузо, Дж. Кроу, Дж. Морана, Р.Суинберна, Дж. Халил Иссы и др.
С целью анализа взаимоотношений между протестантизмом и светской психотерапией, а также для выявления причин девальвации «заботы о себе» в рамках этой христианской конфессии были рассмотрены работы Дж.
Бобджена, А.Ф. Бондаренко, Д. Кэпса, Р. Лоуренса, Дж. Хантера, С.Хейса и
В качестве основных источников были взяты труды как античных философов-классиков Аристотеля и диалоги Платона, так и мыслителей поздней античности Марка Аврелия, Сенеки, Эпиктета. Также были использованы труды христианских апологетов Афинагора и мч. Иустина Философа; мыслителей эпохи патристики свт. Афанасия Великого, свт. Григория Богослова, свт. Григория Нисского, свт. Григория Паламы, св. Николая Кавасилы; философов-схоластов Ансельма Кентерберийского, Боэция, св. Фомы Аквинского; символические книги основоположников протестантизма Жана Кальвина, Мартина Лютера и Мартина Хайдеггера. Важно отметить, что, обращаясь к творчеству святых отцов восточно-христианской традиции, мы исследовали их творения как особый род опытного философствования, отличный от западноевропейской традиции1.
На наш взгляд, лишь постмодернистская рецепция являет собой определённое направление исследований феномена «заботы о себе», которое основано на тематизации данного феномена у М. Фуко. Однако сама парадигма постмодернистских исследований достаточно «идеологична» и вряд ли может быть опорой для полноценного историко-философского осмысления различных традиций и форм «заботы о себе» в истории европейской культуры.
Более подробно об этом см. в работах С.С. Хоружего.
Цель и задачи исследования Цель нашего исследования представляет собой историко-философский анализ феномена «заботы о себе» в контексте античной, средневековой (раннехристианской) и современной философии, а также сравнительный анализ разных парадигм «заботы о себе» на примере стоицизма, различных форм христианства, фундаментальной онтологии М.Хайдеггера и связанного с его творчеством движения экзистенциальной терапии.
Достижение указанной цели реализовывалось посредством решения более частных исследовательских задач. Задачи исследования:
Прояснение сути взаимосвязи между философией и «заботой о себе» для обоснования тезиса об их органическом единстве в позднеантичную и христианскую эпохи;
Историко-философская реконструкция и сравнительный анализ «заботы о себе» в стоицизме и раннем христианстве с целью обнаружения специфических черт, которые помогают дифференцировать эти формы «заботы о себе»;
Обоснование невозможности использования термина «христианская забота о себе» в связи с наличием внутри христианского этоса трёх форм «заботы о себе», соответствующих трем основным христианским конфессиям (православию, католицизму и протестантизму);
Выявление связи между девальвацией «заботы о себе» в протестантском этосе и возникновением феномена «христианской психотерапии»;
Проведение историко-философской реконструкции «детеологизации» онтологических категорий в творчестве раннего М.Хайдеггера и анализ трактата «Бытие и время» с целью обнаружения контуров заботы о подлинном бытии, возникающей в процессе «преодоления» античной и христианской метафизики;
Критический анализ взаимосвязи идеологии движения экзистенциальной терапии с творчеством М. Хайдеггера и прояснение возможности прочтения «Бытия и времени» вне контекста экзистенциального анализа и вырастающей из него терапевтической практики;
анализ тенденций «ретеологизации» онтологии в творчестве позднего Хайдеггера и обоснование возможности сближения идеи «событийного мышления» и веры в «последнего Бога» (как ключевых тем послевоенного творчества) и апофатической традиции восточно-христианской философии с её мистически-религиозным «преодолением метафизики»;
Объектом исследования предстает проблемное поле междисциплинарных исследований в области связи практики «заботы о себе» с философским, теологическим и психотерапевтическим дискурсом.
Предметом исследования является историко-философский анализ феномена «заботы о себе» и сравнительный анализ философских парадигм «заботы о себе» в рамках античности, средневековья и современности. Теоретические и методологические основания исследования.
Теоретико-методологической базой для нашего исследования явились методы историко-философской реконструкции, сравнительного анализа, категориального и лингвистического анализа, метод экзистенциальной феноменологии, принципы и основные положения герменевтики, экзистенциализма, деконструктивизма.
Особую роль в теоретико-методологической базе нашей работы занимает концепция М.Фуко, но использование нами ряда категорий и метафор французского мыслителя было существенно переосмыслено и иначе содержательно наполнено.
Теоретической базой исследования послужили труды классиков истории философии, а также ряд работ, имеющих отношение к междисциплинарным исследованиям в области философии, антропологии, богословия и истории аскетических практик и психотерапии.
Научная новизна нашего исследования заключается в следующем:
Выявлена глубинная взаимосвязь между философским дискурсом и феноменом «заботой о себе»: дискурсивная философия не только задаёт ценностно-мировоззренческие координаты мышления субъекта, но предстаёт как часть внутреннего усилия субъекта, направленного на изменение своего бытия в процессе познания.
Обнаружено формальное сходство проектов стратегий «заботы о себе» в римском стоицизме и раннехристианской мысли в связи с тем, что ключевой темой для них является тема «спасения». Но в анализе этих парадигм
выявлено существенное различие: для стоиков «забота о себе» замкнута в пределах автономного существования и спасение понимается как независимость от внешнего мира, тогда как в раннехристианском этосе «забота о себе» выходит за пределы экзистенции в онтодиалогическое пространство общения с Богом, причём целью спасения является преодоление смерти.
Установлено существование трёх модификаций практики «заботы о себе» внутри христианского этоса и выявлено различие между ними.
Выявлены причины возникновения альянса между протестантизмом и современной психотерапией, связанного с исчезновением «заботы о себе» в её классическом для христианства аскетико-сакраментальном смысле.
Установлена производимая Хайдеггером в «Бытии и времени» линия «детеологизации» метафизики на основе его идеи о необходимости общей деструкции западноевропейской метафизики.
В ходе сравнительного анализа творчества М. Хайдеггера и идеологов экзистенциальной терапии выявлены существенные различия в основной интенции создателя фундаментальной онтологии и представителей экзистенциально-терапевтического подхода в современной психотерапии.
Обнаружена ретеологизация онтологии в творчестве позднего Хайдеггера, что сближает его позднее творчество с мистической традицией как восточного, так и западного христианства больше нежели с современными техниками психотерапии.
Положения, выносимые на защиту.
1. Философия как дискурсивная деятельность в эпохи античности и средневековья не только вырабатывает ценностно-мировоззренческие ориентиры, но и является встроенной в определённый процесс онтологической трансформации субъекта познания. В отличие от новоевропейской модели рационального философствования,
рассматривающей движение познающего к познаваемой истине сквозь
призму субъект-объектных отношений, в античной и средневековой парадигме процесс познания истины требует онтологической трансформации самого субъекта познания и главной характеристикой истины является её связь с темой спасения субъекта.
2. Несмотря на формальное единство философской настроенности античной и средневековой эпохи, обнаруживается существенное содержательное различие между ними. В ходе историко-философской реконструкции «заботы о себе» в стоицизме и христианстве мы обнаружили значительное расхождение в парадигмах «заботы о себе». Формальное сходство сотерио- терапевтической направленности философского дискурса «заботы о себе» как в том, так и в другом случае не подтверждается содержательным анализом. Если для стоицизма движение истины находится целиком и полностью в рамках автономного субъекта познания и его экзистенции, то в христианской «заботе о себе» происходит её реорганизация и преобразование, поскольку интровертированное философствование автономного субъекта, спасающего себя самого ради себя же, сменяется экстатичной формой оитодиалога с Другим, в результате которого происходит трансцендирование за пределы экзистенции человека. Ключевой темой стоической формы «заботы о себе» является тема «самодостаточности» и интенсификации связей с собой, при этом спасение мыслится как экзистенциальное освобождение от власти того, что «от нас не зависит». В христианской «заботе о себе» ключевой темой становится спасение от автономии существования-к-смерти, причём преодоление смерти предстаёт именно как онтодиалог с Другим и является экзистенциальным мероприятием, органически связанным с темой борьбы со страстями (терапевтический момент христианской «заботы о себе»).
3. Рассмотрение христианской «заботы о себе» в ходе историко-философской реконструкции её экзистенциального дискурса выявляет отсутствие единообразия и невозможность использования качественного определения «христианская» применительно к категориям заботы. Введение понятия
«конфессиональные модификации христианской заботы о себе» помогает произвести анализ механизма формирования специфических дискурсов заботы в рамках трёх основных конфессий - православия, римо-католичества и протестантизма. В итоге выявляется существенное расхождение как в путях формирования теологического дискурса, так и в стратегиях, формирующих «заботу о себе». Основное расхождение между восточно-христианской и западно-христианской «заботой о себе» заключается в приоритете мистико-апофатического мышления для первой, в то время как в рамках римо -католичества и протестантизма доминируют рационально-катафатические методы, задающие не только теологический дискурс, но и определяющие «заботу о себе» в целом. В ходе анализа становления «заботы о себе» в рамках христианского этоса обнаружено существенное расхождение в её понимании и реализации между восточным христианством и римо-католичеством, а также фактическое её исчезновение в протестантизме.
4. Альянс протестантизма со светской психотерапией обусловлен девальвацией в нём аскетико-сакраментальной парадигмы «заботы о себе». Идеологи Реформации догматизировали необходимость отказа от аскетического усилия как части сотериологической активности субьекта «заботы о себе» в связи с основной идеологемой протестантизма о спасении «только верой». Исчезновение аскетической составляющей приводит к невозможности онтологической трансформации субъекта «заботы о себе», которая присутствует в восточно-христианской и римо-католической парадигмах. Именно на базе различения «спасения», понимаемого как акт предопределения в Божественном сознании без участия человеческой воли, и «терапии» как преодоления различных «душевных расстройств» и возникает необходимость замены аскетического усилия светской психотерапией, в результате чего именно в протестантизме возникает феномен «христианской психотерапии».
5. Историко-философский анализ творчества М.Хайдеггера показывает его глубокую вовлечённость в теологическую проблематику. Теологическое
образование в католической семинарии, а затем отход от «католической метафизики» и дискуссии с представителями «исторической теологии» Р. Бультманом и П. Тиллихом являются существенной частью того контекста, в котором происходит становление хайдеггеровского мышления. Анализируя трактат «Бытие и время» и ряд других его сочинений раннего периода, мы обнаруживаем контекст «детеологизации» онтологии, осуществляемой в рамках общей «деструкции метафизики». Выявление данного контекста показывает, что механизм формирования смыслов в философской системе немецкого мыслителя тесно связан с преодолением их теологических коннотаций. «Детеологизация онтологии» в гносеологической перспективе хайдеггеровской мысли есть преодоление рационалыю-катафатической настроенности западно-христианского мышления, что приводит Хайдеггера к апофатическому пониманию истины и бытия человека, а также к отказу от проекта католической схоластики отождествить «библейского Бога» с «Богом античной метафизики».
6. Сравнительный анализ содержания тракта М. Хайдеггера «Бытие и время» и идеологии экзистенциальной терапии показал наличие существенного различия между основной интенцией хайдеггеровской мысли и системой базисных идеализации в теории экзистенциальной терапии. Трактат М.Хайдеггера «Бытие и время» чаще всего воспринимается как фундаментальный анализ экзистенциальной структуры Dasein, используемый в практике экзистенциальной терапии. При более тщательном историко-философском анализе данного произведения обнаруживается исходная бесструктурность и простота бытия, его принципиальная несводимость и непросматриваемость в экзистенции, которая как таковая всегда уже есть отход от аутентичности бытия. «Бытие и время» в этой перспективе предстаёт лишь как экскурс и подготовка к главной теме хайдеггеровской мысли - существо присутствия в его «стоянии внутри», тогда как его многосложность связана с «падением во время». Поэтому всякий экзистенциальный анализ и вырастающая на его почве терапевтическая
практика предстают как путь удаления от бытия человека к его дефективным экзистентным состояниям.
7. В позднем творчестве Хайдеггера обнаруживается тенденция ретеологизации онтологии, перекликающаяся с апофатическими тенденциями его раннего философствования. Мисти ко-апофатическая настроенность, характерная для поздних сочинений Хайдеггера, сближает его с немецкой средневековой мистикой (М. Экхарт, Г. Сузо) и восточно-христианской философией исихазма. Переход от метафизики к «событийному мышлению» выражается в том, что главная онтологическая нужда человека для «особствования» его бытия - это нужда в «последнем Боге», который проходит на глубине «интимности сокровенного смирения», в которой «не слышны ничьи голоса». Эти характеристики мышления немецкого философа позволяют наметить возможность определённого сближения его мысли с восточно-христианской философией исихазма. Хайдеггеровская тема «нужды в последнем Боге» и отвлечения от «мелочных нужд» потребительского существования близка восточно-христианской традиции, позиционирующей онтологическую нехватку человеку Бога для осуществления себя и важности аскетического усилия в преодолении «захваченное™ миром».
Теоретическая и практическая значимость исследования определяется постановкой проблемы, заявленной в области истории философии. Историко-философская реконструкция «заботы о себе» проясняет сложность взаимоотношений дискурсивной философии с практикой философской жизни для переориентации историко-философских исследований с анализа становления философии как рационально-теоретического дискурса на анализ формирования или деформации философии как «заботы о себе».
Результаты данного исследования могут иметь теоретическое значение для развития методологии истории философии и применяться в различных гуманитарных курсах, затрагивающих темы соотношения теоретического и
экзистенциального аспектов философствования. Практическая значимость проведённого исследования определяется поиском решения духовно-экзистенциальных проблем, реабилитацией философии как ценностно-мировоззренческого ориентирования человека в мире и обеспечения возможности выхода из антропологического кризиса в целом.
Ряд промежуточных результатов исследования может быть использован в исследованиях по истории и теории культуры, антропологии, истории религии, истории и теории психотерапии, этике, социальной философии. Апробация исследования.
Основные результаты исследования докладывались на IX и X Димитриевских образовательных чтениях, были использованы в процессе чтения курса «История философии» на факультете филологии и журналистики.
Структура работы.
Структура работы определяется последовательностью решения основных задач и состоит из введения, трёх глав, заключения и библиографии, включающей 191 источник. Общий объём диссертации 160 страниц.
Принцип «заботы о себе» в структуре античной философии
В структуре античной философии именно в тот момент, когда происходит так называемый «антропологический поворот» и центральной темой философствования становится сам человек, наряду с возникновением особых форм рефлексии на человеческий опыт происходит акцентирование и на другом принципе, задающем формирование всей дальнейшей «культуры себя» (М.Фуко) - это принцип «заботы о себе». Но это вовсе не означает, что всё предшествующее становление философского знания происходило исключительно на уровне интеллектуального созерцания, без апелляции к самой практике «философской жизни». Мишель Фуко не одинок в своём пересмотре взаимоотношений между теоретической философией и практикой «философской жизни». С основной его интенцией перекликается мысль другого французского специалиста по античной философии П. Адо. Он пишет о том, что философия « рассматривается во всей античности как способ бытия, как состояние человека, существующего совершенно иначе, нежели остальные люди... Если философия есть активность, смысл которой упражнение в мудрости, то упражнение это по необходимости заключается не только в том, чтобы говорить и рассуждать определённым образом, но и в том, чтобы определённым образом быть, действовать, смотреть на мир. Следовательно, если философия не только дискурс, но и жизненный выбор, экзистенциальное предпочтение, деятельное упражнение, то именно потому, что она есть стремление к мудрости» (4, 236-237). Адо выделяет три существенных пункта в понимании связи «дискурсивной философии» и «философского образа жизни» в эту эпоху:
1. «дискурс оправдывает жизненный выбор и развивает все вытекающие из него следствия»;
2. «дискурс - оптимальное средство, позволяющее воздействовать на себя и других; с этой точки зрения дискурс можно определить как духовное упражнение, то есть как «практику, которая должна полностью изменить бытие человека»; 3. «сам философский дискурс - это тоже один из видов упражнения в философском образе жизни» (там же). Как и Фуко, Адо фиксирует связь античной философии с практикой жизни, а главное также обращает внимание на неизбежность изменения бытия человека, приступившего к занятиям философией.
Фуко, вычленяя структурные моменты концепции «заботы о себе» внутри практики философствования, обращает внимание на три существенных аспекта: присутствует тема «некоего общего отношения, своеобразной манеры смотреть на мир, действовать, вступать в отношения с другими людьми». Другим важным компонентом выступает форма взгляда, обращение от внешнего к внутреннему, то есть «забота о себе» характеризуется неким специфическим вниманием к себе, обращённостью «во внутрь себя» и некой сознательной нечувствительностью к происходящему «вовне». Третий пункт, на котором останавливается французский мыслитель, - наличие в структуре «заботы о себе» определённого образа действий, осуществляемых субъектом по отношению к самому себе, системы кодексов, регламентирующих отношение человека к самому себе, определённых форм рефлексии, контроля сознания, определённого режима отношения к телу и вещам и др.
В этой связи принципиально невозможным представляется говорить об автономии философствования по отношению к практике «заботы о себе» в эпоху поздней античности и эллинизма в особенности. В свою очередь, существующая традиция восприятия «заботы о себе» как чего-то автономного по отношению к философскому познанию истины также неадекватна, ибо предполагает два параллельных ряда истин, расслаивающих цельность экзистенциального опыта, в котором имеет место быть органическое единство познания и «заботы о себе». По этому поводу Фуко констатирует: «Можно сказать схематично, что со времён античности философский вопрос «Как познать истину?» и практика духовности как необходимой трансформации бытия субъекта, которая позволит ему постичь истину, - суть две проблемы, принадлежащие одной тематике, и потому они не могут рассматриваться изолированно друг от друга (курс, мой - А.С.)(139,288).
Говоря о связи философии и принципа «заботы о себе», следует прояснить то нечто, что единит их, и определить рамки того экзистенциального пространства, в котором они составляют нерасторжимое единство. В качестве рабочего можно принять различение, которое есть у Фуко в «Герменевтике субъекта». Он говорит о том, что философию необходимо понимать и как «форму мысли, определяющую условия, способы и предельные возможности постижения истины» (139, 287) и как «совокупность принципов и практических навыков, которые человек имеет в своём распоряжении или предоставляет в распоряжение других с тем, чтобы иметь возможность должным образом проявлять заботу о себе или о других» (139, 296). В этом синтетическом определении сфера философии расширяется таким образом, что можно говорить о едином экзистенциальном пространстве «философского образа жизни», в котором пребывали не только Сократ и философы эллинистической эпохи, но и более ранние античные мыслители, такие как Фалес, Гераклит, Эмпедокл и др., и который впоследствии определил особый характер христианской философии как «деятельного любомудрия»1.
Девальвация «заботы о себе» в протестантизме и светская психотерапия
Уже в самом начале движения Реформации были созданы догматические основания для отказа от субъективной сотериологии и фактической фальсификация самой возможности аскетической «заботы о себе» в её психотерапевтическом и сотериологическом контексте. Именно в протестантизме были созданы определённые условия для того, чтобы сам принцип «заботы о себе» как основа действительной онтологической трансформации субъекта, находящегося в общении с истиной, «ушел в тень» (Фуко). Аскетическая «забота о себе» уступила место «просто вере», не нуждающейся в действовании ради спасения, а только «принимающей» действия Бога. Кьеркегоровский тезис о том, что оппозиция «добродетель -грех» не имела права на существование в христианстве и была заменена оппозицией «вера - грех», выражала не только утверждение сотериологической значимости «только веры» (sola fide), но и отказ от реальной возможности освобождения от греха через аскетическую работу и внутреннее преобразование себя при содействии Божественной благодати. Важным основанием протестантской сотериологии и вытекающей из неё невозможности «внутренней аскезы» была констатация факта, что человек как субъект активности, связанной с его собственным спасением, «исчез» (К. Барт). Всё, что ему остаётся, - это только принять эту данность (М.Лютер) или же удостовериться в ней (Ж. Кальвин). Протестантское богословие создаёт условия для того, чтобы «забота о душе» стала невозможной. Пространство, в котором совершается спасение человека, уже не имеет никакого экзистенциального статуса, но целиком и полностью переносится в область трансцендентных решений, совершаемых «далёким Богом» (М.Вебер).
Эта своеобразная «заблокированность» практики попечения о себе с целью борьбы со страстями и достижением спасения стало тем основанием, на котором возникла нужда в светской психотерапии, заполнившая пустующую нишу, освобождённую для нее «аскетической психотерапией». Возникшие на границе 19-20 вв. в протестантской среде движения Association of the Clinical Pastoral Education (ACPE), The Movement of Emmanuel и др. (169, 25) стали ярким подтверждением неизбежности этого альянса и его логически закономерного характера.
Для нашего исследования важно другое: забота о душе (психотерапия) в протестантизме уже не связана с темой спасения. И даже само понятие «спасения» существенно беднеет, потому что именно в протестантизме оно лишилось тех коннотаций, которыми изначально было насыщено понятие soteria, означавшее и спасение как избавление от онтологической беды, и «исцеление» как действительного уврачевание «травмы греха» в человеческой природе. Именно эта истина отражена в словах Виктора Франкла, разводящего «области интересов» религии и психотерапии: «Цель психотерапии - исцеление души, цель же религий - спасение души». То, к чему движется работа психотерапевта, никак не связано с тем, к чему движется тот, кто нуждается в спасении. Весь процесс излечения требует иных канонов и других средств, нежели те, которые предлагала восточно-христианская традиция, не различавшая в содержании soteria темы излечения души от недугов страстей и её спасения от власти греха и смерти. При анализе взаимоотношений любых христианских конфессий и деноминаций и различных школ психотерапии не учитывается именно это существенное различие. Всякая попытка ассимиляции или альянса должна быть основана на тщательном анализе этих особенностей, поскольку без этого научное исследование легко скатывается в производство квазинаучных интерпретаций.
В то же время альянс психологии и христианства в самой протестантской среде для её представителей не является чем-то однозначно положительным. Многие исследователи воспринимают этот союз либо как нечто невозможное, либо как подмену христианской религии психотерапией как новой религией. Раймонд Лоуренс, директор Пресвитерианской больницы пасторского попечения в Нью-Йорке настаивает на том, что «защитники союза духовности и медицины пытаются создать новый мир «по дешёвке» -без соответствующей подготовки, и, видимо, не замечают радикальности своих взглядов и их преложения» (179, 45). Он видит единственный выход для протестантских пасторов в том, чтобы они сами получали клиническое образование и тем самым были бы универсально подготовлены в различных областях. Ряд авторов настаивает на несовместимости самого языка христианства с языком психотерапии. Вышеупомянутый Р. Лоуренс метафорически именует эту ситуацию «ведьминым зельем». Многообразие психотерапевтических школ и техник, отсутствие подлинной научности и невозможность простой ассимиляции и взаимопроникновения психотерапии и протестантской духовности вызывает у многих представителей протестантизма тревогу и беспокойство относительно модернистских тенденций. Но, тем не менее, есть и те, кто стремится обосновать подобное сочетание.
В тексте отечественного исследователя данной проблематики А.Ф.Бондаренко «Христианская психотерапия в современном англоязычном мире» мы обнаруживаем апологетику данного движения. Автор указывает на возможность преодоления противостояния между разными школами психотерапии и христианской религией. Бондаренко пишет о том, что в середине 50-х гг. произошло разделение сфер влияния между религией и психологией: «Психология присвоила себе право культурного толкования и опосредования жизни человека в реальном пространстве-времени его бытия. Религия, соответственно, оставила за собой область инобытийного, мифического и вневременного бытия человека в его принципиально иной...сущностно-бытийной перспективе» (25, 12). Психология и психиатрия, по словам автора, сосредоточились на усилиях по оказанию экзистенциальной и биологической помощи человеку в процессе проживания его жизни наиболее беспрепятственным и полноценным образом. Тогда как религия оставила за собой заботу о «вневременном, внеситуативном и внемирном» контексте человеческого бытия. Но это «разделение сфер влияния» оказалось недолгим, потому что вскоре, по словам Бондаренко, «крайности объединились»: «Психология всё больше и больше озабочивала себя проблемами духовности, религия же, наряду с институтом пасторов, создала институт христианских психологов-консультантов» (25, 14). Говоря о развитии «христианской психотерапии», автор подчеркивает, что речь идёт о «многообразных разновидностях протестантских течений: лютеранства, пуританства, англиканства, кальвинизма, пятидесятничества и др.» (25, 16). Очень существенным является указание на цель существования феномена «христианской психотерапии». Автор статьи, говоря о различии между «научной психотерапией» и «христианской психотерапией», указывает на то, что, если первая шла по стопам медицины, то вторая «следовала вековым традициям религиозного сопровождения человека и вспомоществования ему не только в случае болезни, смерти и невзгод, а также в наиболее радостных и значительных жизненных событиях, но и в повседневности социальной и личной жизни» (там же). Протестантский психотерапевт занят разъяснением душевной жизни точно так же, как этим занят светский психотерапевт, от которого он отличается лишь тем, что может обратиться к молитве и чтению Нового Завета, чтобы почерпнуть решения для тех «нравственных затруднений», которые возникли у клиента.
Как было показано в ходе нашего исследования, связь протестантской психотерапии с «вековыми традициями религиозного сопровождения человека и вспомоществования ему» не имеет текстологического и фактографического подтверждения. Напротив, мы обнаруживаем существенность различия между установками психотерапии и древнехристианской аскетической «заботы о себе».
«Детеологизация» онтологии как аспект «деструкции метафизики» в «Бытии и времени» М.Хайдеггера
Трактат «Бытие и время» М.Хайдеггера представляет интерес в контексте нашего исследования не только в связи с желанием понять суть психотерапевтической парадигмы экзистенциального анализа, укоренённой в творчестве немецкого мыслителя. Это немаловажно и для решения более общих исследовательских задач, основанных на стремлении выяснить стратегию движения к «истине бытия человека» (его подлинности) в парадигме неклассической метафизики, которая произвела «деструкцию» предшествующей метафизики в онтологической перспективе, частным аспектом которой является её «детеологизация». Именно анализ «детеологизации» онтологической проблематики может помочь нам решить вопрос о судьбе «заботы о себе» в новейшее время, потому что именно в рамках «теологической метафизики» средневековья прослеживается утрата связи между движением познания и онтологической трансформацией бытия познающего субъекта.
Хайдеггер усматривает необходимость новой постановки вопроса о бытии и для его решения обращается к тому бытию, которое есть «мы сами». По сути, главным вопросом и сферой ориентации автора является тема подлинности- неподлинности человеческого бытия. Человеческое «вот бытие» и поиск путей к выявлению его аутентичности - это красная нить хайдеггеровского исследования в «Бытии и времени». Этот текст представляет собой фундаментальную попытку выйти за рамки «традиционных» антропологических моделей, скрывающихся за многослойностью «региональной онтологизации» для того, чтобы «пробиться» к истокам аутентичности человеческого бытия. Подробная аналитика человеческой экзистенции, представленная в трактате немецкого мыслителя, как в зарубежной, так и в отечественной литературе получила достаточное количество комментариев в самых различных перспективах. В контексте нашего исследования нас интересует практически никем не освещенный аспект «детеологизации» (как существенный момент общей хайдеггеровской «деструкции метафизики») и соприкосновения фундаментального поиска истоков человеческого бытия с теологической проблематикой в целом.
Из биографии М.Хайдеггера мы узнаём о том, что его личная судьба была до поры до времени более чем тесно связана с католицизмом (от детских посещений деревенского прихода до учёбы в семинарии и личном исследовании католической догматики) (114, 23). В письме другу Э.Кребсу от 9 января 1919 г. М.Хайдеггер писал: «Теоретико-познавательные исследования, относящиеся главным образом к теории исторического познания, сделали для меня проблематичной и неприемлемой систему католицизма, хотя и не христианство и не метафизику, которые теперь имеют для меня совершенно иной смысл» (114, 54). Серьёзность отношения Хайдеггера к теологической проблематике делает, как минимум, несерьёзным убеждение Ж.-П.Сартра о принадлежности немецкого философа к «атеистическому экзистенциализму». Отвращение Хайдеггера от классической метафизики, включая и «классическую» теологию (католическую схоластику), вызвано главной целью его фундаментального исследования - феноменологическим возвращением к тому, «кем» является человек (наряду с вариативностью «региональных» интерпретаций (биология, теология, психология и др.), известных в истории философской и научной мысли), для получения возможности всмотреться в аутентичный онтологический исток человеческой экзистенции.
Обращаясь к анализу текста, мы хотим выяснить, в чём состоит различие оснований в понимании «подлинности бытия» человека в хайдеггеровской и восточно-христианской онтологии. Понимая, что подобный сравнительный анализ может превратиться в движение в двух «несоизмеримых» и параллельных дискурсивных пространствах, мы, учитывая такую «ложную» перспективу, тем не менее считаем возможным его осуществление. Исскуственность подобного анализа снимается самим фактом перманентного обращения к теологической проблематике в «Бытии и времени», а также наличия общих тем мысли в восточно-христианской «заботе о себе» и хайдеггеровской онтологии. Эта общность далеко не формальная. И, как мы постараемся показать ниже, если в творчестве раннего Хайдеггера заметно достаточно резкое расхождение в понимании «заботы о себе» между ним и восточно-христианской традицией, то в позднем творчестве немецкого мыслителя обнаруживается резкая перемена и его мысль начинает двигаться тем путём, который во многом обнаруживает сходство с мистической философией восточного христианства и средневековой мистикой в целом.
На с. 10 русского издания читаем: «Теология ищет более исходного, предначертанного смыслом самой веры и остающегося внутри неё толкования бытия человека к Богу. Она начинает понемногу снова понимать прозрение Лютера, что её догматическая систематика покоится на «фундаменте», который сложился не из первично верующего вопрошания и концептуалыюсть которого для теологической проблематики не только не достаточна, но скрывает и искажает её» (145, 10). Разрыв с официальным католицизмом, о котором Хайдеггер писал ещё в 1919 г. Кребсу, нашёл своё теоретическое выражение в тексте «Бытия и времени». В то же время здесь позиционируется определённое теоретическое отношение к теологическому дискурсу в целом. В докладе «Теология и феноменология» (1927), сделанном фактически тогда же, когда вышел в свет трактат «Бытие и время», Хайдеггер понимает теологию как позитивную науку. В этом докладе немецкий философ говорит о том, что онтология разрабатывается им гораздо глубже, нежели любые «региональные» интерпретации, включающие и теологическое толкование бытия человека. Теология затрагивает только один аспект бытия - бытие-к-Богу, не рассматривая, по мнению Хайдеггера, всей полноты онтологического устройства Dasien (148, 32). Это понимание подводит итог всему тому, что входит в контекст «детеологизации» западноевропейской метафизики в трактате «Бытие и время». Теология в её схоластическом варианте является элементом, встроенным в рационально-метафизический дискурс западноевропейской философии. Поэтому проект «деструкции» метафизики не может не включать в себя критику западно-христианской теологии с её ориентацией на философскую рациональность античности. Особое внимание следует обратить на то, что речь идёт именно о дискурсе западно-христианской теологии, в то время, как восточно-христианская традиция a priori оказывается не включённой в контекст рассмотрения и анализа.
Понятия «Innenstehen» («стояние внутри») у М. Хайдеггера и «виутрьпребывание» в восточно-христианской философии: возможность сближения парадигм «заботы о себе»
В данном параграфе мы попытаемся наметить возможность исследования в контексте сравнительного анализа парадигм «заботы о себе», вырастающих на базе творчества позднего Хайдеггера (особенно того материала, который представлен в книге «Вклад в философию (от события)»). Не претендуя на глубокий и всесторонний анализ, требующий специального и серьёзного исследования всего творчества позднего Хайдеггера, мы лишь попытаемся обозначить ряд точек соприкосновения его мысли с основными интенциями восточно-христианской «заботы о себе». Само подобное сопоставление не является надуманным и искусственным с чисто научной точки зрения. О религиозности мышления Хайдеггера и его глубоким соприкосновением с теологической проблематикой говорят многие современные западные и отечественный исследователи, среди которых Дж. Блоэхль, Ф. Каппель, Г. Деверилл, В.В. Бибихин, А.Н. Павленко, С.А. Коначева и др.
Готовящаяся к изданию на русском языке книга «Вклад в философию от Ereignis» - одно из послевоенных произведений Хайдеггера. Это, по свидетельству В.В.Бибихина, уже не философская система и не «экзистенциальный анализ». Это попытка перехода от метафизического мышления к событийной мысли и в определённом смысле ретеологизация онтологии. Такой переход неизбежно требует своеобразной metanoya, то есть радикальной перемены ума и стратегии мышления. Сам Хайдеггер во «Вкладе в философию...» свидетельствует о сложности подобного перехода: «Настающая мысль есть мыслящий путь, на каком только и может быть пройдена до сих пор вообще потаённая область осуществления Бытия (des Seyns), впервые таким путём прояснена и постигнута в своей собственнейшей черте со-бытия». Комментируя эти слова, В.В.Бибихин констатирует необходимость внутреннего потрясения для выхода за пределы только метафизики ради «захваченности мысли существом Бытия»: «Такое потрясение (Erzitterung) высвобождает мощь сокровенного смирения, обожествления Бога богов, откуда - из мягкой смиряющей близости поднимающегося Божества - исходит подсказка здесь-и-теперь-бытию (Da-sein), указанием в сторону Бытия...» (17, 118). Это указание, происходящее как высвобождение смирения, как высвобождение, происходящее из смирения, связано с обретением «собственного», «подлинного бытия» «через явление Бога богов в интимной глубине». Из этой интимной встречи произрастает подлинность своего бытия.
Человеческая жизнь, распадающаяся на множество нужд в озабочивающем её мире, устраняется от исходной онтологической нужды - подлинно быть. Попытка обрести целость исходного «быть собой», происходящая из «сокровенного смирения» и «интимной глубины встречи с Богом богов», идёт в разрез с общей настроенностью: «Кто отдал себя такому осмыслению, идёт неизбежно против всей широко развернувшейся деятельности устроения, обеспечения, удовлетворения нужд» (17, 119). Хайдеггеровская мысль обращена к вере, которой возможно постижение истины. Существо этой веры, по мысли немецкого мыслителя, должно быть понято «из существа истины». В этом являет себя переход от метафизики к иному мышлению. Истина Бытия, открывающая себя как «хранительное утаивание себя», не может быть «зарегестрирована» в реестре метафизических поисков и потому она требует веры: «Как познать такую истину? Только держась в её бездонности» (17, 120). И в этом спрашивании являет себя вера: «Спрашивающие этого рода суть исконно и собственно верующие, то есть те, кто с безусловной серьёзностью ищет саму истину, а не только истинное; кто способен решать, осуществиться ли существо истины и захватит ли, поведя за собой, это осуществление нас самих знающих, верующих, поступающих, короче, исторических». В этом осуществлении существа истины через нас самих, в нас самих, в обретении нами своего бытия происходит глубинная встреча с «Богом богов» в бездонном молчании: «Где выстоял, спрашивая о бездне, человек, там должен быть и Бог; у веры хватает знания, что более достойного места Ему не может быть». Глубина «своего» равна бездне свободы и потому «тонет в глубоком молчании» (17, 120). Хайдеггер называет Бога последним, так как Его голос, обращенный к человеку, слышен только в той тишине, в которой «ничьи голоса не слышны». В этой, нетронутой ничем внешним интимной тишине произрастает «своё бытие», затронутое зовом последнего Бога, «которого человеку стало не хватать» (17, 121).
Онтологическая нужда, нужда в подлинном бытии, понятая как «нехватка Бога», противостоит нужде другого рода - житейской нужде и попечению. Их противостояние являет себя в том, что «погоня за вещами происходит от покинутости бытием». Эта покинутость, не переживаемая как трагедия, лишь укрепляет в забвении о подлинности собственного, не увлекаемого «ничьими голосами»: «Между нуждой и нуждой настолько нет согласия, что отдать себя опыту молчания выглядит среди общей забытости жертвой» (17, 121). Именно в этом осознании рождается другая мысль, отказывающая предшествующей метафизике в подлинной затронутое Бытием: «Что это однако значит, что теперь надо отважиться на набросок существа истины как просвета и тайны и готовить сдвиг человека к при-сутствию? Сдвиг из того положения, в котором мы находимся: из гигантской пустоты и глуши, втиснутые в давно уже неузнаваемую традицию без мерила и, главное, без воли ставить вопросы к ней, а пустыня - тайная оставленность бытием» (17, 128). В творчестве свт. Феофана Затворника мы обнаруживаем поразительно схожие мысли по отношению к различию между онтологической нуждой в Боге и мелкими житейскими нуждами, которыми человек стремится заполнить пустоту своего бытия. Св. Феофан пишет в книге «Путь ко спасению» пишет: «...Образовавшаяся в нём (в человеке -А.С.) пустота, чрез отпадение от Бога, непрестанно возжигает в нём ничем неудовлетворимую жажду - неопределённую, но непрестанную. Человек стал бездонною пропастью, всеусиленно заботится он наполнить сию бездну, но не видит и не чувствует наполнения. Оттого весь свой век он в поте, в труде и великих хлопотах: занят разнообразными предметами, в коих чает утоление снедающей его жажды... От Бога, Который есть полнота всего отпал, сам пуст, осталось как бы разлиться по бесконечно разнообразным вещам и жить в них» (142, 110-111).
Трансцендентное и имманентное как основная антиномия религиозного сознания
Понятия трансцендентного и имманентного можно приблизительно сравнить с такими знакомыми обыденному сознанию противоположными понятиями, как сверхъестественное и естественное, мир горний и мир дольний (миры божественный и земной).
Рассуждая чисто логически и отвечая на вопрос, по каким же признакам противоположны трансцендентное и имманентное, следует сказать, что по всем признакам. Иначе говоря, никакое из известных нам свойств земного мира нельзя приписать трансцендентному. Таким образом получается, что мы не в состоянии сказать что-либо о трансцендентном. Конечно, строго логически это так и есть, и это неизбежно приводит к выводу, что для нашего сознания совершенно безразлично, существует ли трансцендентное вообще. Однако такой вывод совершенно не годится для религиозной философии, поскольку религиозное отношение основывается на вере в трансцендентное, а потому религиозное сознание по меньшей мере признает у него признак существования. Но этого для религиозного сознания мало – ведь невозможно верить в лишенную свойств, «голую» абстракцию. Больше того, христианская вера основана на том, что «Бог есть любовь», однако возлюбить абстракцию невозможно, полюбить можно лишь личность. Поэтому и требуются «отступления» от строго логической трактовки трансцендентного и имманентного. Требуется хотя бы минимальная конкретизация трансцендентного.
Подобная конкретизация предполагается уже самим понятием «религия», которое означает «связь»; подобный смысл и у понятия «символ» – разделяя, связывать. Для того, чтобы была возможна связь, требуется что-либо общее. Таким общим в случае христианской веры является личностное представление о Боге.
Что значит утверждение «человек верит в Бога»? Здесь необходимо усмотреть три момента: во-первых, веру в существование надмирного Бога; во-вторых, веру в Его определяющее воздействие на мир вообще и человека в частности; в-третьих, веру в возможность для человека обратиться к Богу. Это обращение к Богу называется молитвой; в христианстве различают молитвы-прошения, молитвы-благодарения, молитвы-славословия (богохульство категорически запрещено).
Религиозная вера, таким образом, – это двусторонняя связь человека с Богом, то есть диалог двух личностей – человеческой личности и Абсолютной Божественной личности. (Конечно, слово «личность» применимо к Богу не так, как к человеку, а именно – это уже не понятие, а символ, поскольку о трансцендентном если и можно говорить, то лишь символически.) При этом одна личность – человеческая – все время вопрошает, а другая – Божественная – время от времени отвечает.
Тринитарная проблема
Христианство – это монотеизм, однако христианский монотеизм существенно отличается от иудейского. Христианский Бог триипостасен: три ипостаси суть Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Дух Святой. Проблема состоит в том, чтобы, признавая триипостасность Бога, не уклониться в тритеизм. Главная трудность – в интерпретации термина «ипостась».
Слово «ипостась» встречается уже в Новом Завете (Евр. 1, 3). Что именно понимал под ним автор – им самим не разъясняется. Это слово употребляет Аристотель в смысле «субстанция», однако этот смысл совершенно не пригоден в свете требования монотеизма. Все было бы проще, если бы дело ограничивалось потребностями философского решения как такового. Однако для религиозной философии важно такое решение, которое подлежит наглядной интерпретации. Именно поэтому приходится прибегать к мифологии, священной истории, Божественным именам – они придают трансцендентному наглядность, хотя и символическую. (Впечатляющий пример рассуждений о Божественных именах дан в «Ареопагитиках» Псевдо-Дионисия.)
Триединство Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Дух Святой вызывает ассоциацию с Единым, Умом и Душой в учении Плотина. Влияние неоплатонизма как противное христианству определялось эманацией , вследствие чего при переходе от Единого к Уму и Душе снижалась степень совершенства (это называли субординатизмом). Если из этой схемы устранить эманацию, то Единое, Ум и Душа окажутся равными и единосущными, что вполне отвечало бы требованию монотеизма и соответственно единосущности ипостасей. Кстати, заметно соответствие в описании Плотином и христианскими авторами Бога-Отца и Единого, Ума и Сына-Логоса, Духа Святого и Души. Однако в каждом случае определить, чьему влиянию обязано это сходство, невозможно.
Хотя для христианства необходимо личностное понимание Бога, именование ипостасей «лицами» («личностями») без специального истолкования слов богословы не одобряли, поскольку «лицо», «личность» в конечном счете ассоциируются с актерской маской в древнем театре. Однако и в настоящее время эти термины выглядят допустимыми.
В философской литературе, не ориентирующейся на наглядность, триипостасность интерпретируется сугубо теоретически. Полнота существования характеризуется отношениями «в-себе-бытие», «для-себя-бытие», «у-себя-бытие»; это есть тройственное отношение сущего к его сущности. В Троице «второй, непосредственно порождаясь первым , есть прямой образ ипостаси его, выражает своею действительностью существенное содержание первого, служит ему вечным выражением, или Словом, а третий, исходя из первого, как уже имеющего свое проявление во втором, утверждает его как выраженного …». Можно это представить и несколько по-иному. «Первый есть безусловное Первоначало, дух как самосущий, т. е. непосредственно существующий как абсолютная субстанция; второй есть вечное и адекватное проявление или выражение, существенное Слово первого, и третий есть Дух, возвращающийся к себе и тем замыкающий круг божественного бытия…».
Основная трудность понимания догмата троичности, как она выявилась исторически (в разные эпохи и у разных народов), состояла в необходимости осознания, что Отец и Сын – это одно – «Я и Отец – одно» (Ин. 10, 30), и что это единство – сущностное, то есть что Сын единосущен Отцу. Иначе говоря, людям было необходимо поверить в то, что через Сына Бог-Отец открывает себя людям: «…Я в Отце, и Отец во Мне» (Ин. 14, 10). Этому препятствовало обыденное представление об отношении отца и сына. Между тем в евангелиях есть немало мест, где Иисус Христос совершенно недопустимым в иудейской среде образом характеризует свое отношение к Богу. Так, например, Иисус обращался к Богу как к своему отцу, что существенно отличалось от отношения иудеев к Богу: «…Восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему» (Ин. 20, 17). Иисус говорил также, что именно он определяет человеческую судьбу перед Богом (Лк. 12, 8-9), он верил, что может творить чудеса, тогда как в иудаизме это делает лишь Бог (Мф. 11, 4-6). В Нагорной проповеди Иисус Христос даже поправляет Закон, хотя такой власти не было ни у кого – ни пророка, ни учителя. Наконец, вместо «так говорил Бог» он говорил «Я говорю вам», что было вовсе невозможным для израильтян. Подобных примеров много больше. Таким образом, тем людям, которые не поверили Иисусу Христу, что он – Сын Бога и Бог, осталось признать в нем обманщика и распять его.
Проблема доказательства бытия Бога
Коль скоро Бог в христианской философии – это первоначало, то никакого доказательства, как и всегда при выборе первоначала, с философской точки зрения не требуется, поскольку это просто невозможно. «”Первоначала” же и не нуждаются в доказательстве, и не опускаются до доказуемости. Они, как говорится, сами собой очевидны». Однако для религиозного сознания иной раз дело обстоит по-другому: возможность доказательства укрепляет веру, как свидетельствуют сами верующие. С философской точки зрения это выглядит по меньшей мере неубедительно. «…Идея доказательства существования Бога является противоречивой идеей и ее следует отбросить. Если существует опыт встречи с Богом (и только в этом смысле и можно говорить о существовании Бога), то такой опыт должен быть лишь точкой отсчета и ничем более…».
Несмотря на наличие философских аргументов против необходимости доказательства бытия Бога, их все-таки выстраивали. В самом ли деле эти рассуждения доказывают существование Бога?
«…Существование Бога может быть доказано пятью путями.
Первый и наиболее очевидный путь – это доказательство от движения. <…> …Все движущееся необходимо движется чем-то другим. И если движущий движется сам, то, значит, и его самого движет что-то другое, и это другое – таким же образом. Но этот (ряд) не может идти в бесконечность, ибо тогда не будет первого двигателя, и, следовательно, никаких двигателей вообще, ибо вторичные двигатели движут лишь постольку, поскольку движимы первым двигателем… Поэтому необходимо прийти (мыслью) к первому двигателю, который уже не движим ничем; и каждому ясно, что это – Бог.
Второй путь – (это путь, вытекающий) из природы действующей причины. <…> …Если бы в причинном (ряду) не было первой причины, то не было бы ни последней, ни какой-либо промежуточной причины. <…> Поэтому необходимо прийти (мыслью) к первой действующей причине, каковую все называют Богом.
Третий путь исходит из (понятий) возможности и необходимости… <…> …Невозможно, чтобы ряд причинно обусловливающих друг друга необходимых сущностей уходил в бесконечность, как это было уже доказано в связи с действующими причинами. Поэтому нельзя не принять бытия некоей сущности, необходимой через саму себя, а не через иное, и обусловливающей необходимость всего прочего, что необходимо.
Четвертый путь исходит из неравенства степеней (совершенства), обнаруживаемых в вещах. <…> (Необходимо), должна быть некая сущность, являющаяся для всего сущего причиной его бытия, блага и прочих совершенств; и ее-то мы и называем Богом.
Пятый путь идет от порядка мира. <…> Есть некая разумная сущность, направляющая все природные вещи к их цели; эту-то сущность мы и называем Богом».
Проблема богопознания
Проблема познания вообще – одна из фундаментальных в философии; причем даже если речь идет о возможности познания сторон и свойств материального мира, есть много сомнений. Что же касается вопроса о возможности познания трансцендентного, то отрицательный ответ кажется очевидным. По меньшей мере такой ответ с необходимостью следует из противопоставления трансцендентного и имманентного. Однако коль скоро в религиозной философии невозможно абсолютизировать это противопоставление, нельзя и абсолютно отрицать возможность богопознания, ибо в этом случае о Боге невозможно будет что-либо утверждать.
«…Каким образом мы можем познать Бога, который не является ни чем-либо умопостигаемым, ни чем-либо чувственно-воспринимаемым… Итак, познать, что есть Бог по существу своему – мы не можем, поскольку он – непознаваем…». «…Все божественное, которое нам открывается, мы познаем единственно в силу сопричастности к нему…». Речь здесь идет об особом виде познания – мистическом познании, то есть непосредственном усмотрении сверхъестественного. Принимая во внимание, что религиозное отношение – это диалог, сразу заметим, что для мистического познания точно так же необходимо взаимное действие двух сторон – человека и Бога. Мистик со своей стороны предпринимает определенные действия, дабы подготовиться к познанию Божественных истин, тогда как со стороны Бога мистику дается Откровение. Богопознание, таким образом, – это познание через Откровение.
Та мистическая картина, которая дается в Откровении, имеет символический характер, коль скоро речь идет о выражении трансцендентного. Интересно, что сам мистик не всегда в состоянии проникнуть в символику Откровения, примеры чего есть в книгах Ветхого Завета.
Как же человек может высказывать знание, полученное о трансцендентном? В общем случае есть два противоположных пути описания. Один – положительный (катафатический), когда объект описывают через то, чем он является, то есть перечисляются его свойства. Другой – отрицательный (апофатический), когда об объекте говорят, чем он не является. Для объектов земного мира мы используем положительный путь описания, что, очевидно, неприменимо к трансцендентному вследствие противоположности трансцендентного имманентному. Остается признать, что несомненно предпочтительнее апофатическое богословие. Именно на это указывают рассуждения о трансцендентном, которое чувственно не воспринимаемо и не умопостигаемо.
«Разумное» знание и вера
Поскольку представления даются человеку либо верой, либо разумом, причем истины веры могут противоречить истинам разума, возникает вопрос об их соотношении. Эволюция ответов на этот вопрос шла от принципа превосходства веры над разумом к концепции «двух истин».
В эпоху апологетики, когда еще не был окончательно утвержден библейский канон и не были сформулированы основные догматы, разуму, по сути, просто не на что было опереться. Не случайно поэтому апологеты апеллировали преимущественно к вере. Наиболее ярко эту позицию выразил Тертуллиан, с именем которого связывают тезис «Верую, ибо абсурдно». «Сын Божий пригвожден ко кресту; я не стыжусь этого, потому что этого должно стыдиться. Сын Божий умер; это вполне вероятно, потому что это безумно. Он погребен и воскрес; это достоверно, потому что это невозможно».
Уже по-другому выглядит позиция Августина (354–430), который понимает, что человек как разумное существо вряд ли может отказаться от аргументов разума, хотя и не безразлично, на что именно может быть направлен разум. Л. Шестов пишет: «Уже у бл. Августина совершенно отчетливо устанавливается, что вера подлежит, почти что сама ищет, контроля разума». Одновременно он цитирует Августина: «Вере в Бога должно предшествовать понимание некоторых вещей. В то же время вера, которой в него верят, помогает больше понимать… Имеются вещи, которым сначала нужно поверить, чтобы потом их понять». И еще: «Понимай, чтобы поверить моему слову, веруй, чтобы понять слово Божие».
Еще больше доверяет свидетельствам разума Ансельм Кентерберийский (1034–1109). Его эпоха выдвигала новые требования. «Христианин должен идти от веры к разуму, а не от разума к вере, и еще меньше того он должен перестать верить, если он не способен понять разумом эту веру, а должен поступать так: если он в состоянии проникнуть до познания, то он находит в этом удовольствие, а если нет, то он просто поклоняется». Слова Ансельма о том, что если христианин не в силах проникнуть до познания, то он просто поклоняется, очень напоминают прежде всего первобытную религиозность. Во вторую очередь они напоминают состояние даже современного обыденного религиозного сознания, не утруждающего себя размышлениями над истинами веры, приверженцем которой тем не менее себя считает.
В конце концов схоластика приходит к здравой идее гармонии веры и разума. Складывается концепция «двух истин». Суть ее в том, что истины веры и истины разума относятся к разным областям действительности, а значит, они по меньшей мере не могут мешать друг другу. Больше того, коль скоро наука изучает материальный мир, то есть творение Бога, она тем самым способствует приближению к Богу. Наконец, философия, которая в противоположность теологии связана также с истинами разума, может помочь в прояснении некоторых догматов (хотя, конечно, не все догматы подлежат рациональному обоснованию, поскольку они сверх разумны). Отсюда возникает представление о философии как служанке богословия. Позже это прокомментирует И. Кант: «Так, о философии говорят, что она служанка богословия… Но из этого еще не совсем ясно, “идет ли она с факелом впереди своей милостивой госпожи или несет ее шлейф“».
Вопрос о соотношении истин веры и истин разума в современную эпоху научного прогресса по-прежнему (если не в еще большей степени) актуален. В самом деле, опасны (или, может быть, полезны?) для религии развитие науки, рост образованности людей? На этот вопрос можно ответить очень просто: наука выбивает у религии искусственные подпорки в виде человеческого невежества. Если еще раз вспомнить слова Ансельма о тех верующих, которые предпочитают оставаться на уровне простого поклонения, то ясно, что их интеллектуальная непритязательность дает возможность довольствоваться примитивными религиозными представлениями и не требует убедительной для ума (и тем более философской) аргументации – достаточно незамысловатых чудес. Если же религии требуется отстаивать свое существование среди людей с развитым мышлением, то она мобилизует все внутренние резервы, отбросив все наносное и несущественное. Поэтому-то, например, Н. А. Бердяев писал, что наука и техника опасны для душевной жизни, но полезны для жизни духовной, понимая под духовной жизнью религиозное отношение. «Власть техники в человеческой жизни влечет за собой очень большое изменение в типе религиозности. И нужно прямо сказать, что к лучшему. В техническую, машинную эпоху ослабевает и делается все более и более затруднительным наследственный, привычный, бытовой, социально обусловленный тип религиозности. Религиозный субъект меняется, он чувствует себя менее связанным с традиционными формами, с растительно-органическим бытом. Религиозная жизнь в техническо-машинную эпоху требует более напряженной духовности, христианство делается более внутренним и духовным, более свободным от социальных внушений».
Христианское учение о творении
Прежде всего идея творения противопоставляется эманации. Это необходимо для того, чтобы Бог был понят как существо надмирное, как Творец, противостоящий творению.
Из чего Бог сотворил мир? Обычно об этом говорится в космогонических мифах. Два основных мифологических варианта – либо демиург сотворил мир из хаоса, либо из себя самого. Поскольку в ветхозаветном мифе о творении на этот вопрос не дается ответ, требуется найти приемлемую для христианства точку зрения. Оба известных мифологических варианта оказываются неприемлемыми: творение из хаоса противоречит монотеизму, а творение мира Богом из себя самого противоречит утверждению о всеблагости Бога, ибо в мире существует зло. Таким образом, остается признать, что Бог сотворил мир из ничего .
Время и вечность
Противопоставлению Творца и творения соответствует противопоставление вечности и времени. При всей трудности прямо ответить на вопрос, что такое время, люди вынуждены очень часто о нем говорить. «Так что же такое время? Если меня никто о нем не спрашивает, то я знаю – что, но как объяснить вопрошающему – не знаю. <…> Но как может быть прошлое и будущее, когда прошлого уже нет, а будущего еще нет? <…> Настоящее именно потому и время, что оно уходит в прошлое. Как же можно тогда говорить о том, что оно есть, если оно потому и есть, что его не будет. Итак, время существует лишь потому, что стремится исчезнуть. <…> Но погляди, душа, может ли быть настоящее долгим: тебе ведь дано наблюдать сроки и измерять их. <…> Настоящим можно назвать только миг, который уже не делится на части; но как ухватить его?».
Иногда в литературе различают мифологическое и эмпирическое время. Строго говоря, термин мифологическое время подразумевает вовсе не время, а как раз вечность, то есть такое состояние, когда закладывались трансцендентные причины эмпирического мира. «Как же ответить мне тем, кто вопрошает: «Что делал Бог до того, как сотворил небо и землю?» Не стану отделываться той известной шуткой, что, дескать, Бог уготовлял преисподнюю тем, кто дерзнет допытываться о высоком».
Время – это характеристика текучести, подвижности, изменчивости объектов. Вечность же связывается с неизменным. Трансцендентное вечно, бесконечно. Творение конечно, оно имеет начало и конец. Когда же начинается «отсчет» времени? Когда время заканчивается?
На первый взгляд кажется, что отсчитывать время следует от сотворения мира, тем более что такой вид хронологии и в самом деле иногда используется. Однако не надо ли усомниться в правильности этого ответа? Основанием для сомнения является тот мифологический факт, что после сотворения люди – Адам и Ева – жили в Эдеме в гармонии с Богом. Иначе говоря, если Эдем – это некое трансцендентное состояние, то ему нельзя приписывать временность. Аналогично этому из эсхатологического мифа (Апокалипсис) известно, что после конца света, то есть с окончанием времени, установится вечность – Царство Божие. Логично поэтому предположить, что временность связана с дисгармоничностью отношений людей и Бога, то есть отсчет времени надо начинать с нарушения этой гармонии, то есть с изгнания из Эдема.
Телесность мира и природа зла
Если в мире существует зло, в чем не приходится сомневаться, то можно ли утверждать, что материя, телесность как таковая является причиной зла? Подобное подозрение возникает из разнообразных исторических примеров того, что христиане (скажем, некоторые) весьма склонны были плохо относиться к человеческому (собственному) телу, причем нередко это приветствовалось официально.
Прежде всего следует подчеркнуть, что для христианства необходимо «отрицательное» понимание зла, когда утверждается, что зло небытийно , то есть не имеет собственного источника (в противном случае учение оказалось бы дуализмом, например, наподобие зороастрийского). «…Распространенное выражение: ”зло присуще материи как таковой” – не верно, поскольку материи присуще разнообразие форм, а потому и она причастна красоте мироздания. <…> …Если же материя все-таки существует, – тогда она должна происходить из Блага…». «…Зло – это лишение, недостаток и оскудение (добра), оно порочно, слепо, беспричинно, безотносительно, безобразно, безжизненно, бездуховно, бесплодно, бездеятельно, бессильно, беззаконно, неразумно, несовершенно, непостоянно, неопределенно, ему присущи неведение, небытие, и само по себе оно нигде, никогда и никак не существует». Небытийность зла иногда описывают по аналогии с тенью, как Платон описывал небытийность вещей, уподобляя их теням.
Что же касается идеи о том, что человеческое тело само по себе плохо, то от нее следует решительно отказаться, ибо это прежде всего противоречит Боговоплощению.
Не противоречит ли наличие зла всеблагости Бога? – Это возникшая еще в древности проблема теодицеи – богооправдания. Все же почему всеблагий Бог допускает существование зла в мире? Рассуждая о мире вообще, мы не усматриваем в нем причины зла. Остается предположить, что эти причины прояснятся при рассмотрении идеи человека.
Человек
Человек как образ и подобие Бога
Христианское учение о человеке как образе и подобии Бога происходит из ветхозаветного антропогонического мифа. Однако в христианстве различают человека как образ Бога и человека как подобие Бога. Можно сказать, что человек является подобием Бога лишь потенциально, хотя и не обязательно он использует эту возможность. Актуально же человек – это образ Бога. Но в каком именно смысле?
Этот вопрос приходится специально задавать потому, что из-за мифологизации трансцендентного в религии, то есть из-за необходимости придания наглядности трансцендентному, чтобы сделать его доступным для веры и массового сознания, нередко в обыденном сознании происходит полное забвение того важного обстоятельства, что мифологическая наглядность имеет символический характер, а значит, не может быть интерпретирована «напрямую».
В христианстве целостность человека понимается как триединство тела, души и духа (1 Фессалоник. 5, 23), что, конечно, напоминает античное представление о триединстве человека – тело, душа, ум. Требуется различать душу и дух, тем более что мифологически они не различались. Душа согласно древней традиции, – это оживляющее начало. Так, например, Аристотель различал душу растительную, душу животную и душу разумную. Дух же присущ только человеку, почему человек и оказывается венцом творения. «”Он вдунул в лице его дыхание жизни”. Этими словами указывается, что дух жизни подается человеку извне, то есть от Бога, при сотворении... <…> Еккл. 12: ”Дух возвратится к Тому, Кто его дал”». Дух тем самым это именно то начало в человеке, которое устремлено к Богу, это «искра Божья» в человеке. Человек – это образ Бога ни в коем случае не телесно, не душевно, а духовно.
В триединстве духа, душа и тела душа подвергается двоякому воздействию – тело тянет ее вниз, к заботе о земной жизни, тогда как дух увлекает душу ввысь, к Богу. Тело, таким образом, способно отвлекать человека от Бога, что и может быть воспринято как повод (хотя и ложный) для неприязненного отношения к телесному вообще.
Свободная воля как причина зла
В христианском учении о человеке важнейшим представлением является свобода человеческой воли. Хотя, конечно, христианство не чуждо провиденциализма, его нельзя назвать фатализмом. Человек, как, впрочем, и ангелы, был сотворен свободным, то есть ему предоставлена свобода выбора. Выбора между чем?
Хотя некоторые христианские авторы возражают против утверждения, что христианство – это нравственное учение, оно, как и любая религия, представляет собой «знание ради спасения» (М. Шелер) – спасения от царящего в мире зла . Поэтому здесь подразумевается выбор между добром (благом) и злом. Однако речь идет о религиозном сознании, где благо тождественно Богу. Перед человеком, таким образом, открывается возможность выбора: следовать по пути, предписанному Богом, либо следовать собственным путем.
Совершенно ясно этот выбор представлен в ветхозаветном мифе о грехопадении. Суть его в том, что Бог сформулировал некий запрет, а люди предпочли этот запрет проигнорировать. Интересно обратить внимание и на Диавола (Сатану). Сам по себе он никоим образом не является источником зла. Это ангел, который воспользовался возможностью свободного выбора и сделал его не в пользу Бога. Его роль состоит в искушении, то есть в указании людям на возможность свободного выбора. Сам же выбор Сатана, разумеется, за них не делает, решение принимают они сами. «…Зло в душах возникает не из-за причастности их материи, а в силу беспорядочного и ошибочного движения».
Грехопадение и спасение
Зло, таким образом, это уклонение, уход от Бога, то есть от Блага, это умаление блага. Одновременно в христианстве зло понимают как распадение единства, распадение целого. Вследствие нарушения людьми в Эдеме данного Богом запрета распалось их единство с Богом, что и было первым грехом.
Логической моделью грехопадения может служить разработанная в античной философии диалектика единого и многого, примененная к соотношению идеи и вещи (по Платону). Одна сторона этого соотношения – идея (единое) как смысловая модель вещей (многого) – нашла выражение в концепции экземпляризма , согласно которой все люди соответствуют Адаму как «образцу». (То, что такая концепция действительно существовала, для сомневающихся в ней можно подтвердить ссылками на известную, причем вовсе не юмористическую дискуссию по вопросу: при изображении Адама следует ли рисовать пупок? Кроме того, лишь с помощью экземпляризма объясняется наличие «первородного» греха, то есть греха прародителей, у новорожденного младенца.) Как известно, человечество стало множиться, а вместе с этим стало множиться и зло после изгнания из рая.
Вторая сторона отношения идеи и вещи – идея как предел становления (идеал) вещи. Если в этой схеме многое – это люди, то логический образ спасения оказывается в определенном смысле обратным логическому образу грехопадения: если грехопадение – это движение от единого ко многому, то спасение – это движение от многого к единому. Люди, свободно вставшие на путь спасения, выбирают для себя и нравственный идеал – Иисуса Христа («Второго Адама», как его еще называют), который и определяет их моральный путь.
Здесь можно отчетливо увидеть разницу между христианством как «религией любви» и иудаизмом как «религией закона». Эта разница – в мотивации поступка: либо изнутри, от своего Я, свободно стремящегося к идеалу, либо извне, со стороны нормы, выполнение которой вовсе не обязательно требует внутреннее чувство человека, а, например, страх, внешняя дисциплина, стремление соответствовать социуму.
Подобное различие иудаизма и христианства объясняется прежде всего существенным различием в представлениях о трансцендентном. Строго логический монотеизм иудаизма вместе с радикальной удаленностью Бога от человека не может не оставлять его экзистенциально потусторонним. Христианская концепция Боговоплощения, причем – что самое важное – включающая в себя не имеющую аналогов идею Богочеловека, смогла сделать Бога близким людям, открыть им возможность полюбить Бога, а значит, возможность внутренне воспринять предлагаемые им ценности (все это и называется свободным выбором идеала).
Богочеловек
Единство Божественного и человеческого в Иисусе Христе открывает возможность единства Бога и людей, преодоления их разобщенности как трансцендентного и имманентного. Можно сказать, что благодаря этому религиозность (подлинная, а не мнимая) приобретает иной характер, поднимается на более высокий уровень морального сознания.
Идея единства Божественного и человеческого в Иисусе Христе встречается уже у Оригена. «…Мы видим в нем, с одной стороны, нечто человеческое, чем Он, по-видимому, нисколько не отличается от общей немощи смертных, с другой же стороны, – нечто божественное, что не свойственно никакой иной природе, помимо той первой и неизреченной природы Божества. Отсюда и возникает затруднение для человеческой мысли…». Главный христологический догмат, принятый IV Халкидонским собором (421г.), признает Иисуса Христа «Совершенным по Божеству» и «Совершенным по человечеству», причем Божественное и человеческое соединены в нем «неслитно, непревращенно, неразделимо, неразлучимо». При этом, хотя Иисус Христос является «единосущным нам по человечеству», он подобен нам «во всем, кроме греха».
Человечность Иисуса Христа делает его экзистенциально понятным, а потому его жизнь может сопереживаться человеком. Это и выразил апостол Павел: «И уже не я живу, но живет во мне Христос» (Гал. 2, 20). Его внутреннее Я требовало, хотело поступать именно так, как рекомендовал Иисус Христос, и никак иначе. Подобное приближение к идеалу (характеризуемое термином обо жение) и делает человека уже не только образом, но и подобием Бога, превращая потенциальность в актуальность. Это и есть спасение как восстановление утраченного единства человека с Богом. «…Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас» (Ин. 14, 20). «Вы уже очищены чрез слово, которое Я проповедовал вам. Пребудьте во Мне, и Я в вас» (Ин. 15, 3–4).
Поскольку в христианстве полагают, что миссия Христа реализуется церковью («И Я говорю тебе: ты – Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою…» – Мф. 16, 18), постольку предполагается, что спасение осуществляется посредством церкви (с философской точки зрения это дискуссионное утверждение). Различают церковь земную как совокупность верующих, ставших на путь спасения, и церковь небесную – небесный Иерусалим. Соответственно определяется полярность «град земной и град Божий». Град земной – земная жизнь верующего – не самодостаточен, ибо он лишь средство для достижения Града Божьего.
По своей сути церковь – это «мистическое тело Христа». Иисус Христос говорил: «…где двое или трое собраны во Имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18, 20). Здесь проявляется мистическое свойство имени: имя мистически тождественно носителю имени, а потому присутствие имени мистически тождественно присутствию его носителя.
Философия мистического опыта
Традиции мистической философии восходят к трудам Плотина. Его схема космоса – Единое, Ум, Душа, Материя, связанные по нисхождению эманацией, – определяет путь мистического восхождения, степени которого, в свою очередь, определяются принципом подобия микрокосма макрокосму. «Каждый из нас – духовный микрокосм, связанный с чувственным миром тем низшим, что присутствует в нас; высшим же мы родны с божественным Духом…».
Если в классической античной философии разум считался высшей инстанцией макрокосма и высшей способностью человека, то у Плотина он уступил высшее место Единому и человеческому духу соответственно. «…Для человека возможно двоякое самопознание: или он познает и сознает себя только как дискурсивный разум, составляющий главную силу души, или же он, восходя до духа, познает и сознает себя совсем иначе, а именно, соединяясь с духом и мысля себя в его свете, сознает себя уже не как человека, а как иное, высшее существо; человек в этом случае как бы восхищается и воспаряет в высшую сверхчувственную область той лучшей свой частью, которая способна, словно на крыльях, взлетать в область чистого духа и сохранять в себе то, что там увидит».
Понимая человека как духовный микрокосм, Плотин сохраняет представление Платона о двойственном тяготении души: ввысь и вниз. В диалоге «Федр» Сократ уподобляет душу колеснице. «Уподобим душу соединенной силе крылатой парной упряжки и возничего» (246b). «Из коней… один хорош, а другой нет. <…> …Один из них прекрасных ста тей… масть белая, он… друг истинного мнения, его не надо погонять бичом, можно направлять его одним лишь приказанием и словом. А другой…черной масти… друг наглости и похвальбы… и еле повинуется бичу и стрекалам» (253de). Конечно, Плотин по-иному описывает то же внутренне противоречивое состояние человеческой души: «Вот что происходит с индивидуальными душами: тяга к божественному Духу побуждает их возвращаться к своему истоку, но их также влекут и те присущие им силы, которые управляют низшими планами бытия».
Интерес к проблемам мистического восхождения со времен Плотина сохранялся на протяжении многих веков вплоть до настоящего времени. Удивительно, что к построенной Плотином схеме методического восхождения к созерцанию Первоединого до сих пор не было добавлено ничего существенно нового. «Чтобы узреть Первоединого, нужно войти в самую глубь собственной души, как бы во внутреннее святилище храма, и отрешившись от всего, вознесшись превыше всего в полнейшем покое, молчаливо ожидать, пока не предстанут созерцанию сперва образы как бы внешние и отраженные, т. е. Душа и Дух, а за ними и образ внутреннейший, первичный, первосветящий – Первоединый».
Называя Первоединое Богом, Плотин подчеркивает, что для мистического восприятия человек должен отвлечься от всего того, что Богом не является, то есть от всего чувственно данного и умопостигаемого, принадлежащего «здешнему», земному миру. «…Само собой понятно, что мысль не может всецело отдаться созерцанию Бога в то же самое время, когда ее отвлекает какой-либо другой образ, и что душа, наполненная этими образами, не в состоянии воспринять и запечатлеть в себе образ Того, Кто не имеет с такими образами никакого сходства».
Конечно, одного лишь познавательного стремления к постижению Единого недостаточно; без нравственного совершенствования, то есть без преобразования само й жизни человека, мистическое восхождение невозможно. Познание Бога (Блага) происходит «главным образом путем методического восхождения по неким ступеням, ведущим к достижению Блага. Ступени эти суть: очищение молитвой, украшение добродетелью, воспарение после отрешения от всего чувственного в мир сверхчувственный, ноуменальный и старание всячески удержаться в нем… Пройдя мыслью и жизнью через ступени субстанции, ума, совершенно живого существа, она, наконец, перестает все это видеть, как нечто положенное вне себя, и приближается к тому, что стоит выше всех эйдосов и освещает их своим светом… а потом, поднятая как бы на волне Духа еще выше, она вдруг усматривает что-то, сама не ведая, что и как».
Достигнутое мистическое состояние сознания – это состояние единства: сначала Бог – это нечто иное, чем человек, затем происходит отрешение человека от своего «я» и его слияние с Богом. «Вот что обыкновенно происходит, когда человек целиком обращается к Богу: сначала он чув
Глава 1. Принцип «заботы о себе» в структуре античной и древнехристианской философии
§1.Тематизация связи «дискурсивной философии» с практиками «заботы о себе»
§2. Принцип «заботы о себе» в структуре античной философии
§3. Стратегии спасения и терапии в стоической форме «заботы о себе»
§4. Домонашеская форма христианской «заботы о себе»
§5. Общецерковный аскетический императив и монашеская форма «заботы о себе» в христианском этосе
§1. Тематизация связи «дискурсивной философии»
с практиками «заботы о себе».
В последней четверти ХХ века в рамках гуманитарных междисциплинарных исследований произошло переоткрытие феномена аскетизма и реабилитация позитивного контекста его связи с философским дискурсом. Возникновение этой проблематики положило начало волне исследований в рамках постмодернистской парадигмы, в связи с чем общая оценка взаимоотношений между дискурсивными практиками и различными модификациями «заботы о себе» (аскетические, духовные, психотерапевтические и др. формы) получила название «постмодернистской рецепции».
Пионером в этой области исследований был М.П.Фуко, наиболее ярко очертивший контуры своей концепции во 2-м и 3-м томе «Истории сексуальности», в небольшом, но ёмком по содержанию курсе лекций, озаглавленном «Герменевтика субъекта» (1982 г.), и ряде интервью, вошедших в 2-х-томник, озаглавленный «Интеллектуалы и власть». Чёткая тематизация связи между философией как дискурсивной деятельностью и практиками «заботы о себе» была произведена именно в лекциях 1982г. «Герменевтика субъекта». Сразу оговоримся, что наше обращение к мысли Фуко будет лишь частичным и скорее формальным, нежели содержательным. Обращение к творчеству этого мыслителя вызвано главным образом тем, что именно ему принадлежит тематизация феномена «заботы о себе» как составляющей философской деятельности в античную и средневековую эпохи, и поэтому мы не видим необходимости содержательного разбора самой концепции Фуко, так как это выходит за рамки нашего исследования.
Установка на то, что философия есть сугубо теоретическая область, где царит твёрдость рационального постижения действительности (в опоре на чисто интеллектуальный опыт «схватывания» сути вещей) и освоения мира человеком, к середине XX в. существенно поколебалась. Но тем не менее история философии по-прежнему предстаёт перед нами как развитие и становление теоретического знания, являющегося результатом актов интеллектуальной рефлексии. И даже такие течения философии как философия жизни, экзистенциализм, постструктурализма и др. предстают как «неклассические» только благодаря своему иррациональному облику, то есть оппозиции традиционному философскому рационализму. Но данная оппозиция является имманентной самой дискурсивной философии в её становлении от античности до наших дней. История философии рассматривает формирование дискурсивных практик, философских словарей, интеллектуальной рефлексии. В связи с такой установкой – представлением об истории философии как совокупности дискурсивных практик – от исследовательского восприятия ускользает ряд существенных условий и аспектов возникновения и становления философского знания, природа которых принципиально недискурсивна, но задаёт функционирование и формирует экзистенциальную среду философствования. Игнорирование этих аспектов существенно искажает и делает односторонним восприятие ряда философских течений и школ. При опоре на него исследование текстов мыслителей, принадлежащих античной и средневековой эпохе, даёт сбой и вместо помощи в адекватной реконструкции смыслов, содержащихся в произведениях тех или иных мыслителей, оно становится источником поставки искусственных интерпретаций и псевдопонимания в попытке реконструировать аутентичный дискурс в его полноте и многогранности. Дело в том, что дискурсивное поле философии поздней античности и средневековья, то есть интеллектуально-речевая деятельность в рамках метафизической традиции этих эпох – это не столько теоретическое пространство, в котором решению подвергнуты вопросы сугубо теоретического характера, сколько пространство экзистенциальное, где происходит решение проблем, связанных с положением человека в мире и его посмертной судьбой. В этом пространстве философствующий поставлен перед лицом главной метафизической и одновременно экзистенциальной проблемы – темой исчезновения и смерти своего бытия. Именно вокруг этой темы, как мы покажем ниже, конструируется всё экзистенциально-дискурсивное пространство философствования в античную и средневековую эпохи.
В нашем исследовании мы хотим показать, что философия как дискурсивная деятельность укоренена в определённом укладе существования и во многих своих проявлениях является не столько задающей мировоззренческие и ценностные ориентиры человеческого существования, сколько предстаёт как производная от той практики «заботы о себе», в рамках которой она функционирует и производит смыслы, будучи укоренённой в духовно-экзистенциальной системе координат самого философствующего.
М.Фуко в лекциях 1982-го года проводит различие между двумя парадигмами философствования, которые характеризуют становление западноевропейской мысли. Критерий различия - в том, что имеются направления, для которых характерно присутствие органической связи между дискурсивными и экзистенциальными практиками (таковой является фактически почти вся философия античности и средневековья), и течения, в которых эта связь не является существенной или же совершенно отсутствует (такова основная тенденция философского мышления, начиная с Нового времени, за исключением экзистенциально ориентированной философии).
Модель, в рамках которой связь между движением познания и темой «заботы о себе» не имеет существенного значения, характеризует тип философского мышления, соответствующий новоевропейскому рационализму и всей последующей традиции философствования. В этой форме взаимоотношений истина предстаёт как некий «сырой» материал, нуждающийся в рациональном постижении и теоретическом оформлении при помощи научного понятийного аппарата. Но история данной парадигмы достаточно невелика. Об этом Фуко говорит следующее: «… в тот день, когда был сформулирован постулат о том, что познание есть единственный путь к постижению истины, в картезианский момент истории мысль и история истины вступили в современный период развития. Иначе говоря, я полагаю, что современная история истины, то есть этот отсчёт, начинается с того момента, когда познание, и лишь оно одно, становится единственным способом постижения истины, то есть этот отсчёт начинается с того момента, когда философ или учёный, или просто человек, пытающийся найти истину, становится способным разбираться в самом себе посредством лишь одних актов познания, когда больше от него ничего не требуется – ни модификации, ни изменения его бытия» (138, 287).
Другая модель, формирующая определённый тип взаимоотношений между субъектом познания и истиной, закладывает парадигму, альтернативную первой. В ней фиксируется наличие в традициях античного и средневекового философствования иной по отношению к последующим эпохам стратегии движения к истине, связанной с неизбежной онтологической трансформацией бытия самого познающего и невозможности интерпретировать процесс познания сквозь призму субъект-объектных отношений. В этой перспективе истина предстаёт как активный фактор и способна не просто изменить бытие познающего субъекта, так как меняет любое ее познание и любой пережитый и осмысленный экзистенциальный опыт, но изменить самую суть его существования, полностью трансформировав его, сделав самого субъекта познания иным.
Проводя демаркационную линию между двумя этими моделями, мы говорим не просто о двух разных подходах или интерпретациях взаимоотношений познающего субъекта и познаваемой им истины, но о двух совершенно различных парадигмах, каждая из которых бесконечно далека от другой. В обоих случаях речь идёт о движении познающего к истине. Но характер этого движения, понимание того, как и при каких условиях возможно постижение истины, какова должна быть настроенность субъекта и как понимается цель, к которой он движется, каковы средства и стратегии постижения – всё это интерпретируется совершенно иначе . Но самое главное, что сама истина понимается совершенно по-разному. Фуко определяет это различие следующим образом: « В современную эпоху истина уже не в состоянии более служить спасением субъекту» (138, 288). Даже без разъяснения того, как понимается «спасение» самим Фуко, или же каково различие в содержании этого понятия в античности и в средневековую эпоху, можно сказать определённо: именно способность истины спасать и изменять бытие познающего субъекта является главной чертой, различающей гносеологические стратегии в двух выделанных моделях.
Несмотря на присутствие существенных различий между античным и средневековым философствованием, в них обнаруживается явное сходство, связанное с укоренённостью любого теоретического проекта в практике «заботы о себе». Эта укоренённость носит сотериологический характер, поскольку процесс познания тесно связан, а во многих случаях и откровенно совпадает с тактикой спасения. Настроенность философской мысли античности и средневековья определяется экзистенциальными и сотериологическими темами. Эпиктет призывает своего ученика: «Опомнись и спаси свою душу!». Это обращение к себе и тотальная поглощённость темой спасения себя формирует и задаёт направление философии как образу жизни, а не только как дискурсивной деятельности. Этот мотив становится центральным для всей философской мысли в позднеантичную и средневековую эпохи. Практика «философской жизни» – это те исходные координаты движения к истине, внутри которых оно происходит. И вряд ли возможно достичь такой степени абстракции по отношению к познавательным стратегиям, чтобы без ущерба для действительности опыта постижения истины и его интерпретации античными и средневековыми философами, говорить о некой чисто теоретической мысли внутри этих хронологических рамок.
§2. Принцип «заботы о себе» в структуре античной философии.
В структуре античной философии именно в тот момент, когда происходит так называемый «антропологический поворот» и центральной темой философствования становится сам человек, наряду с возникновением особых форм рефлексии на человеческий опыт происходит акцентирование и на другом принципе, задающем формирование всей дальнейшей «культуры себя» (М.Фуко) – это принцип «заботы о себе». Но это вовсе не означает, что всё предшествующее становление философского знания происходило исключительно на уровне интеллектуального созерцания, без апелляции к самой практике «философской жизни». Мишель Фуко не одинок в своём пересмотре взаимоотношений между теоретической философией и практикой «философской жизни». С основной его интенцией перекликается мысль другого французского специалиста по античной философии П. Адо. Он пишет о том, что философия « рассматривается во всей античности как способ бытия, как состояние человека, существующего совершенно иначе, нежели остальные люди… Если философия есть активность, смысл которой упражнение в мудрости, то упражнение это по необходимости заключается не только в том, чтобы говорить и рассуждать определённым образом, но и в том, чтобы определённым образом быть, действовать, смотреть на мир. Следовательно, если философия не только дискурс, но и жизненный выбор, экзистенциальное предпочтение, деятельное упражнение, то именно потому, что она есть стремление к мудрости» (4, 236-237). Адо выделяет три существенных пункта в понимании связи «дискурсивной философии» и «философского образа жизни» в этот период:
«дискурс оправдывает жизненный выбор и развивает все вытекающие из него следствия»;
«дискурс – оптимальное средство, позволяющее воздействовать на себя и других; с этой точки зрения дискурс можно определить как духовное упражнение, то есть как «практику, которая должна полностью изменить бытие человека»;
«сам философский дискурс – это тоже один из видов упражнения в философском образе жизни». (там же).
Как и Фуко, Адо фиксирует связь античной философии с практикой жизни, а главное также обращает внимание на неизбежность изменения бытия человека, приступившего к занятиям философией.
Фуко, вычленяя структурные моменты концепции «заботы о себе» внутри практики философствования, обращает внимание на три существенных аспекта: присутствует тема «некоего общего отношения, своеобразной манеры смотреть на мир, действовать, вступать в отношения с другими людьми». Другим важным компонентом выступает форма взгляда, обращение от внешнего к внутреннему, то есть «забота о себе» характеризуется неким специфическим вниманием к себе, обращённостью «во внутрь себя» и некой сознательной нечувствительностью к происходящему «вовне». Третий пункт, на котором останавливается французский мыслитель, - наличие в структуре «заботы о себе» определённого образа действий, осуществляемых субъектом по отношению к самому себе, системы кодексов, регламентирующих отношение человека к самому себе, определённых форм рефлексии, контроля сознания, определённого режима отношения к телу и вещам и др.
В этой связи принципиально невозможным представляется говорить об автономии философствования по отношению к практике «заботы о себе» в эпоху поздней античности и эллинизма в особенности. В свою очередь, существующая традиция восприятия «заботы о себе» как чего-то автономного по отношению к философскому познанию истины также неадекватна, ибо предполагает два параллельных ряда истин, расслаивающих цельность экзистенциального опыта, в котором имеет место быть органическое единство познания и «заботы о себе». По этому поводу Фуко констатирует: «Можно сказать схематично, что со времён античности философский вопрос «Как познать истину?» и практика духовности как необходимой трансформации бытия субъекта, которая позволит ему постичь истину, - суть две проблемы, принадлежащие одной тематике, и потому они не могут рассматриваться изолированно друг от друга (курс. мой – А.С.) (138, 288)
Говоря о связи философии и принципа «заботы о себе», следует прояснить то нечто, что единит их, и определить рамки того экзистенциального пространства, в котором они составляют нерасторжимое единство. В качестве рабочего можно принять различение, которое есть у Фуко в «Герменевтике субъекта». Он говорит о том, что философию необходимо понимать и как «форму мысли, определяющую условия, способы и предельные возможности постижения истины» (138, 287) и как «совокупность принципов и практических навыков, которые человек имеет в своём распоряжении или предоставляет в распоряжение других с тем, чтобы иметь возможность должным образом проявлять заботу о себе или о других» (138, 296). В этом синтетическом определении сфера философии расширяется таким образом, что можно говорить о едином экзистенциальном пространстве «философского образа жизни», в котором пребывали не только Сократ и философы эллинистической эпохи, но и более ранние античные мыслители, такие как Фалес, Гераклит, Эмпедокл и др., и который впоследствии определил особый характер христианской философии как «деятельного любомудрия».
Фундаментальным для понимания того, какую роль для античной мысли имел принцип «заботы о себе», является диалог Платона «Алкивиад I ». В этом диалоге, происходящем между Сократом и юношей Алкивиадом, собравшимся посвятить свою жизнь политической деятельности, намечаются контуры темы, касающейся связи опыта познания себя и практики «заботы о себе». Сократ, призывая Алкивиада к тому, что бы он проявил «заботу о себе» прежде, чем посвятит себя заботе о других, поэтапно проясняет ряд существенных антропологических положений. Самое существенное положение, из которого проистекают все остальные, заключается в том, что «ни тело, ни целое, состоящее из души и тела, не есть человек», потому что именно «душа – это человек» (104, 130). Из этого аксиоматического положения платоновской антропологии вытекают и определённые последствия для того, каким образом необходимо понимать саму практику «заботы о себе». Человек предстаёт именно как душа в том самом смысле, что душа есть подлинный субъект человеческой жизнедеятельности, а тело и всё принадлежащее человеку представляют собой лишь инструментальную базу для осуществления этой активности. Душа – это нечто нематериальное, разумное и бессмертное, что составляет самость человека, но также предстаёт и как субъект заботы. Это двоякое определение души как самости и как субъекта человеческой активности в перспективе практики «заботы о себе» превращает её и в объект и в субъект «заботы о себе». Человек, решивший проявлять «заботу о себе», – это, по сути, забота его души о самой себе. Таким образом, забота о себе, как она понята в диалоге «Алкивиад 1», предстаёт именно как «забота о душе». Забота о бессмертной душе есть истинная суть философии, тогда как попечение о тленном теле и вещах мира сего не может быть достойным занятием философа, отдающего себе отчёт в том, что вечно изменяющееся положение дел материального мира есть область неподлинного бытия, область онтологически « не истинная», мнимая, иллюзорная. Это то, что касается онтологии. Но, как мы знаем, основной темой этого философского учения является именно познание истины, познание истинной сути вещей, а в отношении души – самопознание. И здесь открывается важная, определяющая фактически все античные практики, гносеологическая направленность «заботы о себе». Душа как разумная сущность проявляется в «заботе о себе» с помощью особых форм рефлексии: «Душа должна всмотреться в душу, в познающую, разумную её часть. Самопознание осуществляется через подобие, так как разумная часть души подобна божеству (75, 133). Вероятно, при этом она, познавая «всё божественное», познаёт себя как сущность - то, какой она должна быть - и видит свои несовершенства. Эта взаимная корреляция самопознания и действительного улучшения души есть основа «философской жизни», всей «культуры себя» от Платона до гностиков.
Опора на естественные силы разума в познании истины и управлении душой в движении к ней в практике «заботы о себе» предстаёт как доминанта в платоновской философии. Знание своей души - не средство, а цель практики «заботы о себе». На фоне всего выше сказанного можно сделать ряд существенных для нашего дальнейшего исследования выводов:
«Забота о себе» в диалоге Платона «Алкивиад 1» есть то, как душа, выступающая в качестве субъекта, заботится о себе как о некой «самости». То есть деятельность души, проявляющей заботу о самой себе, необходимым образом можно назвать «автономной» (тема наставника в практике «заботы о себе» по смысловой нагрузке хотя и коррелирует с нашим движением мысли, но не нарушает этой первичной и фундаментальной автономии «заботящейся о самой себе души» );
«Забота о себе» в стремлении обрести истинное ведение и правильное устроение души обретает форму самопознания и в этом качестве опирается на так называемые «естественные силы» души и, прежде всего, на её разумную часть;
Самопознание предстаёт не только как поиск истины, но также сопровождается изменением себя в перспективе улучшения, то есть движения от менее совершенного состояния к более совершенному. Это интенция познающего к обретению более совершенного ведения себя, которое с необходимостью сопряжено с практикой обретения более совершенного бытия, то есть такого бытия, в котором подлинное знание о душе заменило «диктат мнения», и душа, улучшенная этим знанием, обрела познание и власть над собой.
Автономия познающего субъекта, опора в самопознании на «саморазумение» и доминирующая роль последнего в практике «заботы о себе» в целом – это те вещи, на которые опирается платонизм и, по сути, (в отношении фундаментальных оснований и перспектив) все появившиеся в античную эпоху школы, ориентированные на «культуру себя» и практику «философской жизни». Именно личность Сократа и весь опыт его философской жизнедеятельности становится некой парадигмой для всей дальнейшей истории связи философии и практики жизни. Фуко пишет: «В «Апологии» Сократ предстаёт перед своими судьями именно как учитель «заботы о себе»: Бог поручил ему напоминать людям, что они должны заботиться не о богатствах и почестях, но о самих себе, о своей душе» (139, 58). И далее в его работе следует фундаментальный вывод, касающийся того, чем именно стала «забота о себе» для дальнейшего становления философии не столько как опыта теоретического познания, сколько как опыта «философской жизни»: «Так, именно к этой, освещённой Сократом, теме заботы о себе вернулась впоследствии философия, в конце концов поместив её в самом сердце «искусства существования», которым она стремилась быть… Именно эта тема … постепенно обрела измерения и формы подлинной «культуры себя». Термин этот показывает, что принцип «заботы о себе» получил достаточно общее значение: во всяком случае призыв «заботиться о себе» стал императивом многих отличных друг от друга доктрин; он стал образом действия, манерой поведения, пропитал различные стили жизни, оформился в многочисленные процедуры, практики, предписания, которые осмысляли, развивали, совершенствовали и преподавали». (139, 59).
Кроме того, необходимо обратить внимание ещё на один существенный момент философии Платона. Речь идёт о взаимной корреляции «догматических» положений платоновской философии и задаваемой ею практики «заботы о себе». Её фундаментальные положения (о бессмертии души, о дуализме духовного и материального, о ценности идеального мира и родственной ему бессмертной души и о несущественности (в глубоком смысле этого слова), тленности и даже расценивании как зло материальной сферы бытия (докетизм)) накладывают весомый отпечаток на все античные практики «заботы о себе». И уже после возникновения принципиально новой парадигмы понимания движения к истине в плоскости практик «заботы о себе» в христианскую эпоху в ряде гностических сект продолжала жить, пытаясь ассимилировать с собой христианское вероучение и аскетизм, именно эта платонистская парадигма восприятия человека.
В эллинистический период происходит всплеск римско-эллинистического индивидуализма. Именно в связи с этим в истории «практических применений субъективности» обнаруживается некий значительный сдвиг в сторону более индивидуалистического восприятия практик «заботы о себе» и отхода от платоновской политической ориентации. Эта тенденция находит выражение в «интенсификации отношений к себе, то есть развитии тех внутренних связей с самим собой, того отношения к себе, посредством которого я формирует себя как субъект этих актов» (139, 60). Фуко настаивает на том, что римско-эллинистический индивидуализм никогда не выражался в уединённом образе жизни, а стоики, как одно из характерных течений в философии этого периода, «весьма охотно обличали тех, кто практиковал уединение, за их склонность к распущенности и эгоистическому самолюбованию» (139, 61). Возьмём классический пример позднеантичной философско-наставнической литературы - текст Луция Анея Сенеки «Письма к Луцилию» (117). Переписка с другом, общение с ним, как можно выяснить из контекста писем, является практически единственной формой общения самого Сенеки. В первом же письме Сенека призывает своего товарища: «Отвоюй себя для себя самого, береги и копи время, которое прежде у тебя отнимали и крали…». Во 2-м письме, поощряя Луцилия за то, что он не перемещается с места на место и живёт осёдло, мыслитель пишет ему: «Ведь такие метания - признак больной души. Я думаю, первое доказательство спокойствия духа – способность жить осёдло и оставаться с самим собою». В 7-м письме, наставляя своего товарища бежать от толпы, Сенека пишет: «Уходи в себя, насколько можешь». В 8-м письме на недоумения Луцилия, выраженное в словах: «Ты приказываешь мне избегать толпы, уединиться и довольствоваться собственной совестью», римский стоик говорит: «То, к чему я тебя склоняю, скрыться и запереть двери, - я сам сделал, чтобы многим принести пользу». Польза заключается в том, что Луций Аней Сенека проводит почти всё своё время за чтением книг, выбирая из них бисер философской мудрости прошлого ради наставления потомков. В этом смысле уединение, к которому призывал Сенека Луцилия и в котором пребывал сам, «скрывшись и заперев двери», не является эгоистическим самолюбованием. Это не изоляционный отказ от всякого рода общения, это призыв к нерасточительности себя, к проявлению «заботы о себе», которая невозможна без уединения, но в то же время сам факт переписки между двумя родственными по духу мыслителями свидетельствует о том, что существует определённая мера между уединением и общением. Нет проповеди изоляции, но нет и призыва к праздности. Сам стиль жизни выражен во фразе манифесте Сенеки: «Стань рабом философии, чтобы добыть подлинную свободу… Потому что само рабство у философии – это и есть свобода». Этот образ жизни – «рабство у философии» – требует уединения и безмятежности, которые невозможны для большинства людей и потому требуют удаления от них: «Спокойная жизнь – не для тех, кто слишком много думает о её продлении, кто за великое благо считает пережить множество консульств…Большинство так и мечется между страхом смерти и мучениями жизни; жалкие, они и жить не хотят, и умереть не умеют».(4-е письмо). Поэтому мудрец, желающий спокойной жизни, замыкается в себе, остаётся с самим собой», так как «мудрому довольно самого себя для того, чтобы жить блаженно», и ещё: «Высшее благо не ищет орудий вовне: оно создается дома и возникает только само из себя». Практика удаления от общей жизни («толпы») ради обращения к философской жизни (в «рабстве у философии»), связана ещё и с тем, что необходимо много времени посвящать чтению избранных писателей, глубокое и медленное прочтение которых требует уединения и вовсе не свидетельствует о том, что человек этим лишает себя общения. Сенека пишет о важности настоящей дружбы, о её ценности (3-е письмо). Кроме того, он говорит: «Первое, что обещает дать нам философия, - это умение жить среди людей, благожелательность и общительность» и далее дополняет свою мысль: «Философия требует умеренности». Но сквозь этот призыв вновь прорывается тема существенного отличия человека, живущего «философской жизнью»: «Пусть тот, кто приглядится к нам ближе, знает, насколько мы отличаемся от толпы» (5-е письмо). Таким образом, уже при этом первичном рассмотрении мы выяснили, что образ жизни философа специфичен, он отличается от большинства людей, которые живут иначе. Ниже мы постараемся выяснить специфические черты, различающие «философский образ жизни» от образа жизни «как все».
Повседневность, подчинённая принципу «заботы о себе», как писал Фуко, должна характеризоваться неким особым отношением к себе и другим, неизбежным переключением с внешнего на внутреннее, особой организацией времени жизни и моральной кодификацией мыслей, решений и поступков . « Забота о себе» внутри практики «философского образа жизни» есть не что иное, как постоянное «отвоёвывание самого себя для себя» (Сенека). Это постоянное обращение к самому себя ради обретения независимости и непривязанности по отношению ко всем вещам, и главное, достижение такого внутреннего состояния, которое соответствует двум главным добродетелям стоицизма – автаркии (безмятежности) и атараксии (самодостаточности). Именно философия должна помочь в обретении такого существования, которое бы могло помочь человеку обрести себя самого как высшую и самую значительную ценность. Но для этого необходимо, по словам Сенеки, стать «рабом философии». Очевидно, что речь идёт именно о пожизненном и всецелом рабстве, ибо только в этом состоянии человек может переживать себя как свободное существо (Сенека).
Для более ясного осмысления стоической формы «заботы о себе» необходимо найти ответы на ряд вопросов: каким образом происходит организация жизни? каковы средства организации времени и отношения человека к самому себе? каковы цели и суть практики «заботы о себе»?
В первом же письме Сенека призывает Луцилия к тому, чтобы он «отвоевал себя для себя самого», и первое, что необходимо для этого сделать, - это организовать время определённым образом. Упорядочивание времени связано с тем, что обычное времяпрепровождение человека, не связывающего свою судьбу с философией, характеризуется «растратой времени», которое у него «постоянно крадут»: «Ведь наибольшую часть жизни тратим мы на дурные дела, немалую – на безделье, и всю жизнь – не на те дела, что нужно» (1-е письмо). Тот образ жизни, который предлагает принять своему товарищу Сенека, должен быть бегством от дурных дел и занятостью именно теми делами, которые определённым образом организуют (упорядочивают) повседневность того образа жизни, который носит имя «философского». Уже здесь мы усматриваем первое специфическое отличие «философской жизни» от жизни «как все». Сенека риторически вопрошает: «Укажешь ли ты мне такого, кто ценил бы время, кто знал бы, чего стоит день, кто понимал бы, что умирает с каждым часом?» И сам даёт ответ: «Поступай же так, мой Луцилий, как ты мне пишешь: «Не упускай ни часу» (1-е письмо). Таким образом, различие в повседневности «философского образа жизни» от обыденной повседневности, в которой проходит время жизни большинства, состоит в том, что первая, будучи подчинена принципу «заботы о себе», протекает в сознании momento more и в связи с этим особенным образом переживает время жизни . Философское время протекает под наблюдением и рациональным контролем, оно не растрачивается на дурные дела, безделье и дела ненужные. Это время организовано так, чтобы память о бесценности каждого дня (и даже часа) и близости смерти всегда сопутствовала всякому делу и намерению. В книге налицо определённое отношение к настоящему, прошлому и будущему. Живя под игом памяти смертной, философ формирует определённое отношение к тому, что уже прошло, и к тому, что должно произойти. Общая рекомендация выражена в афористической форме: «с часа твоего рождения идёшь ты к смерти. Об этом должны мы думать и помнить постоянно, если хотим безмятежно дожидаться последнего часа, страх перед которым лишает нас покоя во все остальные часы» (4-е письмо). Мы видим, как в центр размышлений философа помещается тема отношения к смерти. Эта тема является сквозной для размышлений стоиков (причем не просто смерти как прекращения существования, а самого переживания наступления конца, к которому необходимо подготовиться и как бы «заговорить» его). Главная причина надежды и страха – « неумение приноравливаться к настоящему и привычка засылать наши помыслы далеко вперёд» . Более фундаментальная причина такого положения дел заключается в том, что «предвиденье, величайшее из данных человеку благ, оборачивается во зло». Человек, стремясь провести жизнь по своему усмотрению, идёт против того, что ему уготовано судьбой («предвиденьем»), и потому он бессмысленно тратит силы, теряя душевное спокойствие. В связи с этим важнейшей установкой внутри стоической практики «заботы о себе» является отказ от дурных и суетных желаний, привязывающих к внешнему и заставляющих беспокоиться из-за него. Стремясь к спокойной и безмятежной жизни в рационально организованном времени, человеку, вставшему на путь философии, необходимо побороть свои неумеренные желания: «Ты перестанешь бояться, если и надеяться перестанешь», - цитирует Сенека стоика Гекатона. Стремление преодолеть страх перед смертью и отказаться от всяких надежд – вот те интенции, которые задают тон стоической заботе о себе.
Время жизни, как призывает Сенека, должно быть потрачено на то, чтобы «отвоевать себя для самого себя». Обратившись к тексту, необходимо выяснить, каковы средства и стратегии этой «войны», каким образом происходит обретение себя и как жизнь из обыденной повседневности организуется в «философский образ жизни», пронизанный «заботой о себе»?
Мы уже говорили о том, что Сенека видит необходимым условием для «философского образа жизни» ту или иную форму уединения в избегании многолюдной толпы. Сам факт переписки с Луцилием, а также ряд мест из
неё свидетельствуют о необходимости дружеского общения между людьми сродными по духу, потому что оно предупреждает изоляцию. Но главным занятием (что следует из чтения «Писем к Луцилию») предстаёт именно чтение , по поводу которого присутствует много рекомендаций и советов. Во-первых, есть определённые условия, при которых чтение может быть душеполезным. Сенека наставляет своего товарища:
предупреждает от неразборчивого и разнообразного чтения, говоря: «разве чтение множества писателей и разнообразнейших книг не сродни бродяжничеству и непоседливости?». Аксиомой является факт, что «во множестве книги лишь рассеивают нас», то есть лишают ум спокойствия и сосредоточенности, столь необходимых для занятий философией;
необходимо осваиваться с «одним из великих умов» и, даже если приходится отрываться от чтения ради чтения чего-либо другого или иных занятий, то следует «возвращаться к оставленному»;
чтение подчинено определённой задаче: выписке тех или иных рекомендаций, которые могут укрепить ум и душу в различных житейских обстояниях, помогая уберечься от бессмысленной растраты сил. Сенека пишет: «Каждый день запасай что-нибудь против бедности, против смерти, против всякой другой напасти и, пробежав многое, выбери одно, что можешь переварить сегодня». В 6-м письме есть интересное примечание: «Пошлю тебе и книги, а чтобы ты не тратил труда на поиски вещей полезных, сделаю пометки, по которым ты сразу найдёшь всё, что я одобряю и чем восхищаюсь…».
чтение не ограничено только теми авторами, которые были идеологами философии стоицизма, но может быть обращено к любым мыслителям, если их мысли могут оказать пользу читающему. Так, сам Сенека чаще всего цитирует Эпикура (2-е, 8-е, 11-е и др.), а также других античных мыслителей и поэтов.
Далее обратим внимание на то, как вообще организован быт философа, каково его отношение к вещам, к материальным ценностям, к одежде, к уходу за телом, ведь «забота о себе» требует не только внутреннего уединения и чтения, но и ещё ряда условий, при которых она только и может вполне состояться.
Сенека говорит об определённой умеренности во всём, потому как главная цель жизни стоика – «жить в согласии с природой» (5-е письмо), и поэтому неприемлемо всё то, что этому тезису противоречит. Он пишет: «Но противно природе изнурять своё тело, ненавидеть легко доступную опрятность, предпочитая ей нечистоплотность, избирать пищу не только дешёвую, но и грубую и отвратительную. «Философия требует умеренности – не пытки».(5-е письмо). В другом месте он говорит: «Держите тело в строгости, чтобы оно не перестало повиноваться душе: пусть пища лишь утоляет голод, питьё – жажду, пусть одежда защищает тело от холода, а жилище – от всего ему грозящего. А возведено ли жилище из дёрна или пёстрого заморского камня, разницы нет: знайте, что под соломенной кровлей человеку не хуже, чем под золотой. Презирайте всё, что ненужный труд создаёт ради украшения или напоказ. Помните: ничто, кроме души, не достойно восхищения, а для великой души всё меньше неё» (8-е письмо). Потому как «то, чего требует природа, доступно и достижимо, потеем мы лишь ради избытка» (4-е письмо). Даже в отношении внешнего вида он даёт своему товарищу определённые рекомендации: «Избегай появляться неприбранным, с нестриженной головой и запущенной бородой, выставлять напоказ ненависть к серебру, стелить постель на голой земле – словом, всего, что делается ради извращённого удовлетворения собственного тщеславия. Ведь само имя философии вызывает достаточно ненависти, даже если приверженцы её ведут себя скромно; что же будет, если мы начнём жить наперекор людским обычаям? Пусть изнутри мы будем иными во всём – снаружи мы не должны отличаться от людей» (5-е письмо). Философия, призывающая к особому образу жизни и требующая изменения человеческой жизни, не может быть симпатична большинству людей, идущих на поводу у своего неразумия и мнений толпы. Этот ряд сентенций представляет собой краткое изъяснение сути стоической практики жизни. Существование, подчинённое философскому разуму, должно быть умеренным. Мы не видим здесь того презрения к телу, которое в разных формах можно встретить у платоников и киников. Главной ценностью является именно мера. Пища, одежда, уход за телом – всё это внутри жизни заботящегося о себе философа подчинено принципу меры.
Ещё одной существенной темой, пронизывающей практику философского образа жизни, является, как мы уже говорили, общение с другими . Стоит остановиться на этом подробнее. Можно выделить четыре основные формы общения и отношения к ним:
пребывание в толпе;
общение с человеком порочным;
дружеское общение;
общение с человеком, являющим пример правильной философской жизни;
Первые два вида общения являются дефективными и, по сути, не есть общение в том смысле, в котором оно может себя явить в общении между друзьями философами и в общении с кем-то, кто достиг определённой меры «мудрой жизни» и может быть примером для других. Когда Сенека пишет о необходимости внутреннего, а не внешнего различия от «толпы», он подчёркивает определённый аристократизм философского образа жизни. Эта жизнь отлична от жизни «большинства», нравы которого противоречат требованиям жизни в «рабстве у философии». Сенека пишет о вреде пребывания в толпе: «Нет врага хуже, чем толпа, в которой ты трёшься. Каждый непременно либо прельстит тебя своим пороком, либо заразит, либо незаметно запачкает. Чем сборище многолюдней, тем больше опасности. И нет ничего гибельней для добрых нравов, чем зрелища: ведь через наслаждение ещё легче подкрадываются к нам пороки» (7-е письмо). В том же письме автор делится с другом мнением о пагубности общения даже с одним человеком, ведущим порочную жизнь: «Много зла приносит даже единственный пример расточительности и скупости; избалованный приятель и нас делает слабыми и изнеженными, богатый сосед распаляет жадность, лукавый товарищ даже самого чистого и простодушного заразит ржавчиной».
Подлинное общение может быть только с теми людьми, которые могут сделать тебя лучше или которых можешь сделать лучше ты. Последнее касается некой формы «философской дружбы», подобно той, которая имела место между Луцеем Анеем Сенекой и его 62-х летним товарищем Луцилием. Первая же форма общения - между наставником и учеником - наряду с чтением и дружеским общением занимает важнейшее место в практике «заботы о себе» не только у стоиков, но вообще в экзистенциальном пространстве античной философии на протяжении всего её существования. Сенека пишет: «Но больше, чем слова, принесли бы тебе живой голос мудрецов и жизнь рядом с ними. Лучше прийти и видеть на месте, во-первых, потому, что люди верят больше глазам, чем ушам, во-вторых, потому что долог путь наставлений, краток и убедителен путь примеров» (6-е письмо). Поэтому общение, рассматриваемое двояким образом, играет существенную роль в опыте и становлении «философского образа жизни». Избегая толпы и встречи с отдельными порочными людьми, человек, ведущий философский образ жизни, должен стремиться к общению не только с книгами, но и с живыми мудрецами, способными своим примером дать больше, нежели это можно почерпнуть в практике чтения.
Каковы цели и задачи практики «заботы о себе» в понимании Сенеки? Уже в первом письме римский философ обозначает суть заботы как « отвоёвывание себя для самого себя ». Бегство от толпы и пустой траты времени, память смертная, чтение книг, общение с друзьями и наставником имеет целью именно это возвращение к себе. Отвратившись от злых дел, безделья, бесполезных дел и неразумного поведения в целом и «поработившись философии», человек вступает на путь того, что Фуко назвал «интенсификацией внутренних связей с собой». Практика самопознания и улучшения своей души тесно связана с радикальной переменой всего бытия и изменением самого человека. Сенека, обращаясь к своему товарищу, пишет в одном из писем: «Я понимаю, Луцилий, что не только меняюсь к лучшему, но и становлюсь другим человеком» (6-е письмо). Все средства, имеющиеся в распоряжении философа-стоика, нужны для обретения души, которая есть высшая ценность. Но каков это процесс возвращения к себе, «отвоёвывания» себя? Уже не раз в речи Сенеки появлялись мысли о необходимости стяжания спокойного духа, о важности самопознания и работы над собой. Говорилось о том, что душа, мятущаяся и неспокойная, свидетельствует о своей болезни (2-е письмо), а способность жить в уединении и осёдло – признак спокойного духа. В другом месте, подбадривая товарища, Сенека призывает его к более упорному труду над собой, в результате чего у него появится возможность «наслаждаться совершенством и спокойствием души». (4-е). Мятежность - признак ребяческого нрава, и с помощью философии человек должен достигнуть внутренней зрелости и тогда будет записан в «число мужей». В тексте встречается множество медицинских метафор (об этом мы будем говорить более подробно в контексте ассоциации практики «заботы о душе» и её «лечения» в ряде школ античной философии и в наибольшей степени и специфической форме внутри христианской «заботы о себе»). Сенека так передаёт суть опыта «выписок» из философско-наставнической литературы: «Как составляют полезные лекарства, так я заношу на листы спасительные наставления, в целительности которых я убедился на собственных ранах: хотя мои язвы не закрылись совсем, но расползаться вширь перестали». Я указываю другим тот правильный путь, который сам нашёл так поздно, устав от блужданий» (8-е письмо). Чтение и самопознание - средство для исцеления души, излечение которой от многоразличных недугов и заблуждений и есть её «отвоёвывание» и освобождение с помощью философии. «Неуязвимая для боли душа» – это цель стоической философии,
её путь к истине. Сенека говорит: «Мудрому довольно самого себя для того, чтобы жить блаженно… Для жизни ему потребно многое, а для блаженства только высокий и здоровый дух, презирающий фортуну». Таким образом, два основных императивных положения формируют русло, в котором происходит самопознание и движение к истине себя – «согласие с природой» и «презрение к фортуне», выражающееся в сохранении спокойствия и ровного отношения ко всему, что «от нас не зависит». Внутренней же характеристикой философской жизни здесь выступает отсутствие волнений (автаркия) и самодовольство (атараксия). Довольство самим собой – основа блаженной жизни и главная цель философской жизни, её строгой организации и регламентации: «Высшее благо не ищет орудий вовне: оно создаётся дома и возникает только само из себя». (9-е письмо). По сути, на этом можно прекратить анализировать текст нравственных писем Сенеки, поскольку мы выяснили для себя ряд основных пунктов, касающихся стратегии и тактики, средств и целей «заботы о себе» в рамках стоического учения.
На примере разбора текста римского стоика Луцея Анея Сенеки мы рассмотрели, каким образом дискурсивная философия определяет ритм, содержание, основные вопросы и цели существования человека, и как обыденная повседневность, погружённая в «рабство философии», становится «философским образом жизни», в котором всякий поступок, намерение и даже мысли координируются специфическими формами философской рефлексии и регламентации всей жизни.
Теперь обратимся к текстам другого стоического мыслителя Эпиктета. Его заботит не столько тщательная проработка внешней «среды» для успешного осуществления «заботы о себе» (как у Сенеки), сколько внутреннее положение человека в самом себе. Здесь налицо основная тема «интенсификации связей с самим собой». У Сенеки речь идёт о необходимости избегать толпы, общения с дурными людьми, стремиться к безмятежному и самодовлеющему состоянию души и др., но внутренние отношения с самим собой рассматриваются достаточно формально и общё. Эпиктет же в большей степени увлечён внутренними аспектами философской заботы. Несмотря на различие, существует общая интенция, которая, бесспорно, роднит двух мыслителей. Фактически перефразом призыва Сенеки – «отвоюй себя для себя самого» – могут быть слова Эпиктета, обращённые к другу, вернувшемуся к развратной жизни: «Опомнись же и спаси свою душу». Сотериологический мотив, то есть тема спасения и освобождения, пронизывает тексты Эпиктета так же, как и тексты Сенеки. Человеку необходимо следовать голосу совести и разума, чтобы его жизнь могла принадлежать ему в полной мере (162, кн.1, пар. 2). Есть и более глубокие темы, касающиеся стратегий обращения с собой и специфических форм рефлексии. Эпиктет настаивает на необходимости быть «постоянно настороже по отношению к нашим понятиям и желаниям», что поможет избегнуть зла (162, кн. 2, пар. 3). Разумным является такое отношение к себе, в котором человек стремится постоянно работать над собой, искореняя в себе всё дурное, и в то же время спокойно относясь ко всему тому, что от нас не зависит. Как и Сенека, Эпиктет говорит о том, что главный враг человека – это пустые страхи по поводу того, что «не в нашей власти»: «…мы самоуверенно равнодушны к нашей собственной опрометчивости, к нашим ошибкам и страстям и всё внимание и старание наше обращаем на то, чтобы достичь успеха в том, что от нас не зависит» (там же). Происходит инверсия двух «природных добродетелей». Природное бесстрашие, данное для воспитания в себе разумного отношения ко всему, извне находящемуся, напротив, обращено к себе, лишая человека критического видения своих возможностей и повергая его в пустое самодовольство и кичливость. А та природная осмотрительность, которую необходимо было бы направить на свой внутренний мир, напротив, обращена ко внешнему. Эта потеря правильной координации в отношении к себе и миру (всему внешнему) является причиной душевного нездоровья и требует пристальной заботы для восстановления правильного разумного восприятия и совершенства души. Эпиктет призывает к вниманию к себе и наблюдению за происходящим. Через эту деятельность человек должен восстановить правильное отношение к себе и тем вещам, которые «от нас не зависят». Если же при этой деятельности человек все же не вразумляется, а ропщет и впадает в малодушие, то ему следует «бороться с собою, и при помощи разума» укрощать малодушное страдание. Неустанное наблюдение за собой – вот главное философское требование Эпиктета. Если самонаблюдение оставляется человеком хоть на минуту, то и после этого могут возникнуть последствия, которые принесут печаль и страдания нерадевшему. Внимание к себе должно быть неотступным спутником того, кто желает «исправить себя» при любых обстоятельствах его жизни (работа, отдых и др.): «Если ты раз сделаешь что-нибудь без внимания, то потом тебе труднее станет управлять собою и ты легко поддашься соблазнам» (162, 227). Стержневым мотивом философской жизни Эпиктета и его наставлений, обращённых к другим, является тема свободы, понимаемой как полное самообладание и независимость от внешнего мира, от привязанности к вещам (людям, отношениям, обстоятельствам жизни и др.), которые лишают человека самообладания. Стратегия обращения с собой на основе разума такова, что человек должен держать чёткую дистанцию по отношению ко всему тому, что не есть его собственная душа, а в отношении последней он должен пребывать в постоянном наблюдении, внимании и борьбе за то, чтобы искоренить всякое зло и вернуться к естественной добродетели и истинно разумному отношению к себе. Как и Сенека, Эпиктет говорит о необходимости осёдлой жизни и отказа от принятия мыслей о переезде туда, где существование будет более приятным. Эпиктет подчёркивает непоколебимость сократовского утверждения, что подлинным объектом заботы является душа человеческая: «Единственное наше благо и зло – в нас самих, в нашей собственной душе». (162, 219). В отношении тела Эпиктет следует платоновской мысли, считая, что разумный человек не должен прилагать заботы о нём: «Тело – пустое дело для разумного человека» (там же). Тело находится в ряду тех вещей, которыми человек не может пользоваться целиком и полностью. Эпиктет, как никто другой, знал это, будучи рабом. А потому и свобода, достигаемая через независимость от всего внешнего, есть именно освобождение и спасение души через добродетельную и разумную жизнь.
В итоге мы и у Эпиктета, и у Сенеки видим, что вся совокупность средств и стратегий обращения с собой имеет начало и конец в самодовлеющей разумной части души человека , который управляет самим собой, стремясь достигнуть совершенства добродетелей через полную независимость от всего внешнего, включая самое тело человека. «Своё правильное мышление» (162, 249) – это стратегия, средство и цель заботы о душе. Оно обретается с помощью самого себя и определённой работы над собой, включающей самонаблюдение, постоянное внимание к себе, удаление от мнений толпы, жажду спасения, неосуждение других, скромность и ряд других нравственных качеств, соответсвующих духу стоической философии.
В тексте императора Марка Аврелия «Наедине с собой» мы также находим указание относительно небрежения о теле и заботы о душе (86, 277), важности памяти смертной (86, 279). Важным является примечание о том, что смерть есть действие природы и что она естественна (86, 280). Забота о душе, по Марку Аврелию, должна заключаться в том, чтобы уберегать её «от страстей, безрассудства и недовольства делами людей и богов». Разъясняя преимущество занятий философией перед всем, что только есть, мыслитель пишет: «Философствовать – значит оберегать своего внутреннего гения от поношения и изъяна, добиваться того, чтобы он стоял выше наслаждений и страданий, чтобы не было в его действиях ни безрассудства, ни обмана, ни лицемерия, чтобы не касалось его, делает или не делает чего-либо ближний, чтобы на всё происходящее и данное ему в удел он смотрел как на проистекающее оттуда, откуда изошёл он сам, а самое главное – чтобы он безропотно ждал смерти, как простого разложения тех элементов, из которых слагается каждое живое существо (курс. мой – А.С.)» (86, 281). Главное в жизни - сохранить власть над собой, быть хозяином своей души и иметь «точное понимание своих обязанностей, способность разобраться в происходящем и отдать себе отчёт, не пора ли расстаться с этой жизнью». А потому и опасность кроется не столько в самой смерти, сколько в возможности потерять разум ранее, нежели наступит конец физического существования. В итоге, сама смерть есть нечто естественное и несмущающее душу философствующего, но потеря рассудка есть истинное зло. О том же писал Сенека Луцилию, говоря, что наложит на себя руки, если почувствует, что разум покидает его раньше, нежели смерть начнёт стучаться к нему. Таким образом, главная цель философского существования - это «удовлетворённость духа самим собой», которая складывается из четырёх добродетелей – справедливости, истины, благоразумия и мужества (86, 284) . И всё это должно быть согласовано с «природой и строем разумного существа»(86, 285)
После анализа текстов Сенеки, Эпиктета и Марка Аврелия необходимо сделать ряд обобщений, на основе которых в дальнейшем мы будем проводить сравнение парадигм стоической и христианской форм «заботы о себе».
Если в диалоге «Алкивиад 1» Платона мы наблюдаем лишь общие указания о «заботе о себе» и стяжании ряда определённых добродетелей, то в творчестве римских стоиков происходит содержательное расширение и углубление этой сферы. Здесь перед нами определённый путь философского существования с особой, отличной от «большинства», практикой жизни, её регламентацией, специфическими экзистенциальными целями и средствами их достижения, особым отношением к себе и другим, к вещам и внутреннему миру, начиная от внешнего вида, одежды, рациона питания и заканчивая вопросами на границе метафизики и этики, как то: «жить в согласии с природой», «презирая фортуну» и «довольствуясь самим собой». Философия здесь является уже не просто неким общим руководителем или цензором рационального поведения, но координатором абсолютно всех переживаний, отношений, рефлексий и поступков - от самых общих (вопросов, касающихся жизни и смерти) до самых ничтожных (вопросов о внешнем виде, одежде, появлении в обществе и др.). Но важной чертой, единящей не только учение платоников и стоиков, но и ряд других философских доктрин вплоть до их вырождения в эклектике гностических сект, является гносеологическая направленность и рационализованный характер всей «культуры себя» в целом. Самопознание (правильное мышление, саморазумение) все же предстаёт как доминирующая форма «заботы о себе», несмотря на то, что спектр средств и методов шире, чем просто интроспекция.
Но «внутренний анахорезис», имеющий место быть в «культуре себя», которую развивают римские стоики, имеет определённые границы в самом мыслящем субъекте . Философствующий обращён к себе, он довольствуется собой и ищет себя, стремясь отвоевать свою душу у «толпы» и стереотипов-заблуждений, борясь с собой и спасая себя от бренного тела с его страстями и порочными влечениями, мешающего увидеть истину. Но главное во всей этой работе над собой заключается в том, что стратегия борьбы и заботы о себе в целом неизбежно заключена в рамки рационального исследования себя и улучшения своей души с помощью разума. То есть деятельность в «заботе о себе» для стоика целиком и полностью центрирована в нём самом и основана на рациональных процедурах по отношению к себе. Пусть это и не рациональность подобная научной, но, тем не менее, вся совокупность средств, которой пользуются стоики в заботе о себе, так или иначе, отсылает к рациональной деятельности. Будь то призыв Сенеки «отвоевать себя» или же внимание к себе, самонаблюдение и борьба с собой Эпиктета, движение к «самоудовлетворённому спокойному духу» Марка Аврелия – во всём этом стратегическим центром, располагающим всеми возможными средствами и стратегиями работы над собой, является именно разумная часть души . Борясь ли с пороками или же убегая от толпы во внутрь себя, развивая способность не бояться внешнего и быть осторожным в отношении того, что происходит внутри души, – философствующий опирается только на свой
собственный разум и его полагает в качестве единственно верного критерия степени своего духовного совершенства. В этом вся культура себя, разработанная в многообразии доктринальных форм античной философии от Сократа до поздних неоплатоников и стоиков, и даже в её декадансе – гностической эклектике.
§3. Связь стратегий спасения и терапии в
стоической форме «заботы о себе».
В творчестве римских стоиков мы находим органическую взаимосвязь между философским дискурсом и практикой заботы о себе, которая предстаёт как экзистенциальный фундамент философской мысли, без которого невозможна полноценная реконструкция смыслов, содержащихся в стоической философии.
В этой связи уместно заметить, что философский дискурс, в рамках которого заключена вся эта тематика, лишь в поздних традициях теоретического анализа был подвергнут своего рода «дисциплинарному расщеплению». Внутри той речи, где существовало некое экзистенциальное безразличие между философией как мышлением-речью и философией как определённой практикой жизни, «искусством жить», этой «дисциплинарной рефлексии» не была. Было единое синкретичное мышление о философии как возможности организации и координации существования на основе знания, которое она могла дать посвятившему себя «заботе о себе». Фуко пишет: «Греки и римляне, ставя вопрос о соотношении теории и практики, стремились понять, в какой степени сам факт знания истины может позволить субъекту не только действовать так, как он должен действовать, но и быть тем, кем он должен и хочет быть» (138, 308).
В этом смысле необходимо обратить внимание на два специфических аспекта стоического любомудрия, которые в наибольшей мере (нежели абстрактные размышления о мировоззренческих и духовно-нравственных коннотациях практически ориентированной философии) формируют стоицизм именно как практику «заботы о себе». Это сотериологический (связанный с темой спасения души) и терапевтический (связанный с темой исцеления души) аспекты. Как будет показано далее, стоическая философия ставит своей главной задачей спасение заботящегося о себе, а также содержательное осмысление этой темы как исцеления души от страстей и привязанностей к внешнему, лишающих человека здорового духа и безмятежного существования. В стоицизме, таким образом, мы наблюдаем, что ракурс заботы о себе направлен лишь на экзистенциальную сферу. Она определяется императивным требованием «жить в согласии с природой», устанавливая лимит аскетической работы над собой в устремлении к «естественности», ибо природа, по представлениям стоиков, бесстрастна (78, 151).
Внутри стоического «философского образа жизни» познающий движется к истине таким образом, что это движение неизбежно затрагивает самый корень его собственного существования и, по сути, есть именно движение к себе, к истинности своего бытия. Решение метафизических вопросов оборачивается решением вопросов экзистенциальных, и здесь проступает некая потеря границы между дискурсивной практикой философствования и философской организацией повседневной жизни. В стоическом понимании философия, предстающая как рабовладелец по отношению к тому, кто решил посвятить себя ей (Сенека), обещает дать мыслителю свободу и спасение через ряд определённых «философских поступков», дискурсивно-экзистенциальной активности, растягивающейся на всю жизнь. Здесь особенно важным становится то, что дискурсивная философия в ряде своих теоретических положений и определённых стратегий рефлексии предстаёт именно как организация опыта жизни через разумную интенсификацию отношений субъекта с самим собой . Именно движение к блаженной жизни – это суть занятий философией. В этой перспективе она разворачивается именно как сотериология – учение о спасении. Сотериологическая направленность философствования обрекает последнее на экзистенциальную форму (что и было показано выше). Стоический мыслитель живёт спасаясь, и это спасение предстаёт как стяжание невозмутимости духа без отсылки к посмертной судьбе человека . Поэтому истина предстаёт именно как то, что спасает (Фуко). Концептуализация средств, стратегий, целей и задач философствования определяется идеей спасения. В связи с этим философия, как мы уже говорили, очень тесно переплетается с определённой аскетической работой над собой. В послании к брату Галлиону «О счастливой жизни» Сенека с тревогой замечает: «Пока мы суетливо бродим без проводника, прислушиваясь к шумихе вздорных криков, манящих нас к разным соблазнам, жизнь пропадает даром среди заблуждений, а она коротка даже в том случае, если мы день и ночь будем заботиться о своём духовном развитии» (118, 167). Стоик, заботясь о себе, прежде всего, должен выйти из той цепочки заблуждений, в которой происходит существование всякого человека, не обратившегося к философии. Истина, к познанию которой призывается мыслитель, предстаёт именно как освобождающее, спасающее от неправды обычной жизни начало. Рациональное движение к истине связано с преобразованием и радикальной трансформацией бытия субъекта именно потому, что он проживает философскую жизнь как процесс спасения себя. Дискурсивная же философия (чтение, письмо, общение с другими мыслителями и др.) лишь оформляет и проясняет ту практику существования, в которой находится мыслитель, подчинивший себя ей целиком и полностью.
Между «движением к познанию истины» и самой истиной, самый статус которой определяется её возможностью спасти познающего в стоической философии, возникает глубокая сотериологическая корреляция. Связь «истины» и «спасения» находится в центре структуры «философской жизни». Фуко пишет: «Идея спасения принадлежит религии или, по крайней мере, находится под её влиянием. Однако, несмотря на это, понятие спасения эффективно функционирует как философское понятие в рамках самой философии. Спасение выступает как цель философской практики и жизни (курс. мой – А.С.) (138, 299). И далее: «Спасение – это непрерывная деятельность, осуществляемая субъектом по отношению к самому себе и находящая своё вознаграждение в некоем отношении субъекта к самому себе; это отношение определяется отсутствием тревоги и чувством удовлетворения, которое не нуждается ни в чем кроме самого себя. В итоге получается: « Человек спасает самого себя ради самого себя и посредством самого себя, чтобы обрести самого себя » (там же). Все аспекты стоического учения находятся внутри такой организации мысли и жизни философствующего, в которой определяющим мотивом и целью всякого поступка, решения, мысли и вопроса является именно спасение. Истина тогда истинна, когда она спасает .
Философская сотериология (учение о спасении) стоицизма задаётся определёнными космологическими, физическими, антропологическими и этическими представлениями, а также обеспечивает себя определёнными гносеологическими стратегиями и онтологией. Внутри этих дискурсивных рамок (своеобразной догматики стоицизма) происходит осуществление персонального экзистенциально-духовного опыта как опыта «заботы о себе». Опыт отношения к телу, к материальным вещам, к душе, добродетелям и порокам определяется всей совокупностью представлений о мироустройстве, происхождении человека, мировом Логосе и др., которые самым непосредственным образом кодифицируют саму практику «заботы о себе».
Но в связи с тем, что тема спасения ограничивается экзистенциальной сферой и представляет собой именно приобретение независимого внутреннего устроения субъекта познания, возможно говорить не только о корреляции терапевтического и сотериологического аспектов стоической практики «заботы о себе», но и об их принципиальном тождестве. Заботясь о своём спасении, стоический мыслитель полностью предаётся заботе о душе и её здоровье. Вернуться к себе, к тому бесстрастию, которое предстаёт как «жизнь в согласии с природой» – это не что иное, как излечение от душевных недугов, болезни духа, избавление от неразумия (Сенека, Эпиктет). Первичная цель – выйти из состояния мятежности, пустых страхов, которыми обеспокоена неразумная душа, восстановить правильное понимание происходящего, и в итоге – выйти из неразумного состояния и обрести разумное устроение (Марк Аврелий). И у Сенеки, и Эпиктета, и у Марка Аврелия присутствует определение неразумия, пустой обеспокоенности тем, что «от нас не зависит», мятежности духа, невоздержанности и несоблюдения меры во всём, а также всего того, что в любых аскетических традициях носит наименование «душевные страсти» (гнев, похоть, осуждение и др.) именно как душевных болезней и недугов. Фуко приводит пример Эпиктета, не желавшего мириться с тем, что его школу воспринимают как «трамплин» к карьерному росту в разных областях социо-политической жизни: «Для него «школа философа», скорее, нечто в роде «диспансера души», «лечебницы», и «выходить оттуда должно испытав не удовольствие, а боль». Ученикам же следует осознать в себе не школяров, пришедших почерпнуть знания у того, кто ими обладает, но больными…Он упрекает их в том, что они пришли к нему не лечиться, но шлифовать и исправлять свои суждения: «Вы хотите толковать о теоретических правилах…Сначала исцелите свои язвы, остановите истечения, приведите в покой мысль…» (139, 63). В текстах Эпиктета чаще всего можно встретить описание страстного состояния человеческой души как больной, страдающей недугами. Он указывает на то, что человек, неразумно желающий того, что не в его власти и отвращающийся от того, что неизбежно должно произойти, «болен расстройством желаний точно так же, как люди бывают больны расстройством желудка или печени» (162, 212). В другом месте, приводя пример с больным лихорадкой, который, не вылечившись до конца, вновь легко заболевает, Эпиктет говорит, что подобное бывает «с болезнями души»: «после них остаются раны, которые надо вылечить совсем» (162, 214). Поддаваясь всякой страсти, человек подкладывает «дрова в огонь» и потому «наши душевные недуги, наши злые помыслы и желания так именно и усиливаются» (162, 208). Забота о добродетели – это путь лечения души с
помощью разума; внутренняя работа, которая ведётся философом, по своей форме есть именно аскетическая практика с ярко выраженной психотерапевтической направленностью, а по своему содержанию выступает как процесс спасения. Констатация душевной болезни (порабощённость страстям, зависимость от того, что от нас не зависит, неосторожность и невнимательность к себе, поглощённость разума заблуждениями и общее неразумие) требует определённой стратегии лечения, которая не исчерпывается только рациональным анализом и постановкой диагноза, но оборачивается борьбой с собой (Эпиктет) и «отвоёвыванием себя» (Сенека) ради достижения истинного «разумного устроения» (Марк Аврелий). В этой аскетической деятельности (наблюдение за собой, внимание к себе, философское чтение, выписки из текстов, уединение, отказ от общения с порочными людьми и общение с людьми разумными, борьба со страстями, порочными наклонностями и др.) темы лечения и спасения души предстают как единый мотив и суть стоического «философского образа жизни». Стремясь достигнуть бесстрастия (автаркия) и характеризуя это состояние как «разумное устроение», «жизнь в согласии с природой», «самодостаточность», «независимость от всего внешнего», философствующий находится в непрерывной работе по спасению себя, но в содержательном плане – это именно психотерапия (забота о душе и её здоровье). Важным для нашего исследования является то, что такие понятия как «свобода», спасение», «исцеление» и «душевное здоровье» находятся в непосредственной корреляции с аскетическим идеалом стоического «бесстрастия». Встав на путь «рабства у философии», человек встаёт на путь спасения и возвращения к себе. И это возвращение есть именно излечение от пороков, заблуждений и мятежности, которым подвержен человек, идущий на поводу у толпы и предающийся волнениям по поводу того, что «от нас не зависит». «Внутренний анахорезис» (самонаблюдение, внимание к себе, уединение в себе и борьба с помыслами) необходим для обретения ясного, разумного понимания того, что истинно и благо, и того, что им не является. В движении к этому пониманию находится тот, кто спасает самого себя с помощью разума и добродетели. По своему характеру процесс спасения предстаёт также и как процесс излечения души, поскольку страсть – это то, что лишает человека одновременно и здоровья (в стоическом его понимании как «бесстрастия») и свободы, делая его рабом внешних вещей и всего, что «от нас не зависит». Излечение от страсти есть именно освобождение от неё и продвижение на пути к полному спасению, понимаемому как идеальная гармония с бесстрастной природой.
Экзистенциальная ориентация стоической практики «заботы о себе», устраняющая различие между темами спасения и исцеления души в эпоху христианского аскетизма, получит иную интерпретацию в связи с различением сферы экзистенциального и онтологического.
§4. Домонашеская форма христианской «заботы о себе»
Существующая традиция восприятия истории философии как поступательного и непрерывного процесса её становления в контексте нашего исследования обрекает нас на то, чтобы согласиться с мыслью Фуко и других сторонников так называемой «постмодернистской рецепции» христианского аскетизма в том, что последний является всего лишь интерпретацией и реорганизацией того аскетического опыта, который был наработан в стоицизме и других школах античной философии.
Но, как мы покажем ниже, оснований для такого суждения гораздо меньше, нежели аргументов, противоречащих ему.
Фуко, разделяя практики «заботы о себе» на три периода, указывает, что христианский аскетизм – это явление IV века по Р.Х., устанавливая, таким образом, хронологические рамки его возникновения. Логическим выводом из этого будет тезис о том, что христианство домонашеского периода является неаскетичным и предстаёт как нечто оторванное от возникшего в IV веке монашеского движения.
Но, как мы покажем ниже, преемственность между христианством до монашества и самим монашеским движением, очевидная для исследователей христианской культуры, может быть обоснована только в признании «домонашеской» формы «заботы о себе».
И в этом контексте, помня о необходимости показать существенность различия между христианскими и античными практиками «заботы о себе», мы обнаруживаем в опыте христиан первых веков наличие специфического аскетического опыта, сообразующегося с евангельским благовестием и теми духовными координатами, к которым направлено становление новой аскетической культуры, которая сменяет античную «культуру себя» на христианскую «культуру святости».
Богоявление становится тем поворотным пунктом, который задаёт весь контекст последующего формирования личной и культурной идентичности христианского этоса. Именно встреча с Богом и опыт свидетельства этой встречи задают две главные формы первохристианского существования – апостольство и мученичество. Проповедь – единственная форма дискурсивных практик. Первые христианские тексты – послания апостольские – возникают значительно позднее. Именно через «пламенную проповедь» апостолов Христовых и их учеников и сопровождающие её чудеса исцеления, воскрешения мёртвых и др. происходит обращение в христианство. Отечественный специалист в области лингвистической философии и библиистики А.В. Вдовиченко замечает: «… Вера христиан-современников апостолов и мужей апостольских не нуждалась в каком бы то ни было дополнительном обосновании, гораздо значительнее которого был сам факт увиденных евангельских событий и услышанной затем пламенной проповеди. Самая ранняя христианская литература обнаруживает отсутствие интереса к теоретизированию живой данности» (33, 82). В этой перспективе важным и приоритетным предстаёт не столько дискурсивный, сколько экзистенциальный момент – встреча с Другим, ибо истина отвечает отныне не на вопрос «что?», а на вопрос «кто?».
Чтобы определить специфические черты первого периода становления христианской культуры, остановимся подробнее на подвиге «марторес» (мучеников), ибо три века (до Миланского эдикта императора Константина Великого) предстают именно как века гонений на христиан .
Экзистенциальная доминанта проявляется ещё (и прежде всего) в том, что христианство возникает не в проповеди апостолов, а в момент схождения Св.Духа на апостольскую общину. Этот день является днём рождения Церкви, понимаемой не как социальный институт или административное учреждение, а как единый опыт веры в воскресение Христа и открывшуюся возможность спасения от рабства греху и смерти. Единство веры в воскресение Христа и Его скорое Второе Пришествие (Парусию) задаёт эсхатологическую перспективу жизни христиан первых веков. Именно из этого экзистенциального опыта «живой веры» можно понять христианский дискурс (даже в первой его форме – форме проповеди ). Поздние попытки демифологизации и безучастной (в бахтиновском смысле) секулярной интерпретации приводят к тому, что ускользает та первичная цельность опыта, в котором находится первохристианская община. Здесь нет ещё концептуализации учения (эпоха Соборов впереди), нет чёткой регламентации внутренней жизни (аскетическая монашеская литература появится позже), но есть определённый способ существования в единстве любви и веры – Церковь (Х.Яннарас) .
С самых первых лет существования христианства становится очевидной принципиальность расхождения между эллинистической культурой (включая философскую мысль) и той истиной, которую несёт в себе новая вера. И это различие может быть концептуализировано как принципиальное разведение «экзистенциального» и «онтологического» в том опыте «заботы о себе», который являет себя в подвиге отказа от временной жизни ради жизни вечной у «марторес». Показательным может быть один афоризм из книги размышлений великого императора-стоика: «Душе, готовой ко всему, не трудно будет, если понадобиться, расстаться с телом, всё равно, ждёт ли её угасание, рассеяние или новая жизнь. Но эта готовность должна корениться в собственном суждении, проявляя себя не слепым упорством, как у христиан, а рассудительностью, серьёзностью и отсутствием рисовки: только тогда она убедительна и для других» (86, 350). Эта аутентичная оценка мученического подвига стоическим философом обнаруживает принципиальную невозможность теоретических спекуляций по «факту» преемственности между стоическим и христианским учением. Для нас важно прояснить суть этого различия. Как мы сказали выше, оно заключается в принципиальном различии сотериологических ориентаций стоической практики «заботы о себе» и христианского подвига. Подвиг веры «марторес» первых веков – явление внезапное, и его суть - в отказе от экзистенции ради обретения подлинного онтологического статуса в вечной жизни. Стоическая же форма «заботы о себе» целиком и полностью экзистенциальная: она протекает во времени, тогда как исход из физического существования и посмертная участь представляются либо неважными, либо неизвестными. В подвиге «марторес» проясняется иная персональная онтология, закладывающая иной фундамент для аскетической «заботы о себе». Сотериологическая цель заботы целиком и полностью перемещается с концентрации на здешнем существовании за границу смерти, которая побеждена Христом. Происходит не только рекоординация заботы, но и трансформация самой субъективности в её практическом аспекте, означая не только нетленное бытие, простирающееся за границу экзистенциального опыта, но и выявление цели заботы как онтодиалогической связи с Другим. В связи с этим уже в опыте первых «марторес» обнаруживается верующая и молитвенная настроенность к Богу, сменяющая опыт автономной рациональной рефлексии, на котором была укоренена вся античная «культура себя». Эсхатологическая перспектива задаёт тональность экзистенции, переориентируя само существование и изменяя самого субъекта. Сама память о смерти затмевается памятью о том, что за границей смерти и изнутри надежды на воскресение и веры в милость Божию рождается подвиг «марторес». Мученик свидетельствует своей смертью, что есть нечто более ценное, чем физическое существование, и это не «слепое упорство», а некий живой опыт общения с Тем, кто эту ценность – вечную жизнь – даровал через Своё воскресение. Из этого можно сделать очень важный и существенный вывод, касающийся принципиальной несводимости подлинного бытия к экзистенции и несводимости подлинной субъективности к автономному разуму, самостоятельно обеспечивающему весь реестр средств и целей « заботы о себе».
Рассматривая стоическую философию, мы пришли к выводу о том, что именно сотериологический мотив является стержнем для всего опыта «философского образа жизни» данного учения. Спасение есть и цель и форма существования. Философия определяет набор средств и стратегий для его обретения, формируя определённый опыт осознания себя и своего отношения ко всему внешнему и внутреннему. «Забота о себе» есть опыт попечения о душе и, по сути, есть именно её спасение. Формально то же самое мы встречаем и в христианском этосе. Основной темой предстаёт именно спасение души. Но так ли обстоит дело, как говорит Фуко, уверяя слушателей курса своих лекций в том, что христианство не имеет своей собственной морали и вбирает в себя античные ценности? Или истиной является заявление Б.Рассела о том, что христианство переняло учение о всеобщем равенстве у стоиков вместе со многими другими идеями? С.С. Аверинцев, критикуя точку зрения немецкого исследователя И. Лейпольдта, «без остатка сводившего родословную христианского аскетизма к более или менее поздним рецепциям языческой греческой философии», пишет, что ему пришлось бы «закрыть глаза на аскетические мотивы в синоптических евангелиях» (1, 24).
Христианский церковный этос находился на нелегальном положении в течение трёх первых веков. Эта ситуация обусловливала те экзистенциальные координаты, в которых происходило становление и распространение христианской веры. Существовавший институт оглашения (подготовки к сознательному принятию веры), по сути, готовил людей к мученическому подвигу. Здесь важно обратить внимание на существенность различия между стоической «философской жизнью» и христианским опытом «заботы о себе». Стоик – это тот, кто живёт согласно этическим и рациональным идеалам учения, просто сделав его ориентиром в своём повседневном существовании. Это тот, кто прошёл индоктринацию и усвоил определённые принципы «философского образа жизни», посвятив себя их практическому осуществлению в жизни и используя набор тех средств, с помощью которых возможно прийти к поставленной задаче. В христианстве оглашенный, даже будучи великолепно индоктринирован в вероучении, всё же ещё не христианин и не может полноценно осуществить «заботу о себе», даже усвоив весь реестр вероучительных истин. Вращение в дискурсивном пространстве и даже экзистенциальная готовность осуществлять в жизни всё то, к чему призван христианин, – это ещё не основание для полноценного «бытия христианином», потому что христианин не тот, кто знает вероучение, а тот, кто живёт церковной жизнью . Участие в церковной жизни начинается уже в момент оглашения, но существенное вхождение в неё происходит лишь с принятием Таинства Крещения. Этот таинственный акт – свидетельство вхождения в экзистенциальное пространство христианского церковного этоса и полного приобщения к той жизни, которая в нём есть. Но в ситуации гонений на христиан подобное начало почти сразу же могло стать и концом. Институт оглашения, готовил, как мы сказали, к мученичеству, а не к размеренной жизни, посвящённой «заботе о себе». И Платон, и стоики понимали философию как искусство умирания. Христианство этот идеал осуществляло порой даже безо всякой тщательной дискурсивной подготовки (индоктринации). Церковная история знает немало примеров того, когда обращение происходило через созерцание мученического подвига. Например, в агиографическом памятнике, описывающем страдания сорока мучеников Севвастийских, мы находим именно такой пример. Воин, охранявший озеро, в котором находились страдающие христиане, в итоге сам снимает с себя одежду и становится на место одного из них, не выдержавшего подвига и бежавшего. Говоря о «заботе о себе», Фуко выделяет ряд формальных общих признаков, сквозь
призму которых можно расценивать некоторую форму бытия именно как «заботу о себе»: переключение взгляда с внешнего на внутреннее, изменение отношения к себе, к другим, к вещам (некий переворот в иерархии ценностей), определённый набор действий, осуществляемых по отношению к себе в связи с практикой заботы, и радикальное изменение бытия субъекта в связи с его движением к истине. Обращение к своей душе заставляет этого человека оставить должность и почётное звание римского воина, отказавшись от всего того, что составляет внешнюю ценность. Налицо момент преображения и глубокого внутреннего изменения, выражающегося в готовности умереть за то «нечто», что ещё какое-то время назад вызывало лишь презрение и усмешки. Истина вдруг словно озаряет созерцающего, а «марторес», свидетельствующие о ней, вдохновляют его своим подвигом, вынуждая также обратиться к подвигу. Происходит экзистенциальное перемещение центра со своего «Я» (включающего весь набор социальных характеристик, ценностей спокойного существования, профессиональных атрибутов и др.) на Другого. Мученик – свидетель Истины . Его страдание и смерть за Христа есть акт свидетельства знания того, что истинно на самом деле. И потому некто (подобно этому воину), переходящий на сторону страдальцев за веру, сначала приобщается к этому познанию через их свидетельство. Этот акт экзистенциальной трансформации и мгновенно вырастающей готовности принять смерть за истину – главная характеристика той формы «заботы о себе», которая имела место быть в первые века, в эпоху гонений на христианство.
Скорбь за Христа – это дар (Флп. 1:29), потому что соучастие в Его страданиях есть начало соучастия в Его воскресении. «Слепое упорство», замеченное Марком Аврелием в христианах, предстаёт как иная форма разумности, которая изнутри этой особой рациональности переживается как просвещённость светом истины. Эта истина заключена в словах псалмопевца: « лучше милость Твоя, нежели жизнь ». Пространство экзистенциального опыта не есть жизнь в полном смысле этого слова (для христианина), но предстаёт лишь как форма приобщения к истинной жизни в Боге через кенотическую любовь к Нему и ближнему.
Делая выводы из вышеописанного, можно сказать, что стоическое понимание философии как искусства умирания очень далеко от той практики «заботы о себе», которая была явлена в подвиге «марторес» и которая заложила духовный фундамент для возникновения монашеской аскезы. Забота о правильных суждениях, серьёзности и рациональном восприятии по отношению к подготовке к смерти не соответствует тому пафосу внезапной онтологической трансформации («озарённости истиной»), которая происходила через созерцание подвига «марторес».
В следующем параграфе мы покажем, что монашеское движение в лоне христианского этоса понималось не только как «деятельное любомудрие» (в чем, бесспорно, оно имело ряд ассоциаций с античными формами «философского образа жизни»), но и как «бескровное мученичество» (что было совершенно иным по отношению к предшествующим формам заботы о себе).
§5. Общецерковный аскетический императив и монашеская форма «заботы о себе» в христианском этосе
После принятия христианства как государственной религии произошёл некий упадок того эсхатологического напряжения, которое имело место в христианских общинах в эпоху гонений. На этой волне и произошло возникновение и становление того уклада жизни, который нашёл выражение в монашеском движении, стремившемся сохранить подвижническое восприятие и реализацию евангельских идеалов.
После прекращения внешних гонений на Церковь возникла опасность «интеллектуальных гонений», проявившихся в различных гностических ересях. Основное различие в аскетическом мировоззрении античности и христианства выразилось в неприятии ею идеи телесного воскресения. Вся философская культура поздней античности была настроена докетически. Именно эта идея фиксирует фундаментальное расхождение между аскетическим императивом христианства и практиками «заботы о себе», имеющимися в античности. Сформировавшееся представление о том, что весь аскетизм – это нечто жесткое и связанное с насилием над человеческой плотью, стало пересматриваться лишь в последние десятилетия ХХ века в лоне постмодернистских исследований. Это переосмысление темы аскетизма в рамках постмодернизма было связано с его тенденцией к альтернативной интерпретации антропологии, не основанной на классической метафизике. Исследователь аскетизма Маргарет Майлс пишет: « Если мы постараемся понять аскетизм, нам нужно преодолеть стереотип изнурённого аскета с измученным лицом… Этот стереотип, даже если временами он отражал определённую реальность, не подтверждает нашу карикатуру на весь христианский аскетизм как анти-жизнь, извращённую и мазохистскую» (174, 12). Относительно антидокетической настроенности христианской практики «заботы о себе» С.С. Аверинцев говорит: «Христианство с самого начала было подхвачено широко разливающейся волной безотчётной тоски по избавлению от собственной «плоти» – тоски, которая не имела никакой необходимой связи с христианским учением (курс. авт. – А.С.)» (1, 23). Именно поэтому эта тоска нашла себе «наиболее адекватную реализацию отнюдь не в ортодоксальном христианстве, но в «энкратичестских ересях» (там же). Дуалистическое восприятие мира, отражавшееся в докетическом восприятии человеческой телесности, ориентировало практики «заботы о себе» на борьбу духа с плотью, представляя данную оппозицию – «душа/тело» - как фундаментальную аскетическую парадигму. Другой известный отечественный исследователь П. Гайденко пишет: «Христианская теология усматривает злое начало не в плоти как таковой, а в её испорченности, вызванной грехопадением. И соответственно не освобождение бессмертной души от тленной плоти, а освобождение плоти от греховности, одуховление плоти, которое произойдёт по воскресении является целью христианского спасения» (37, 389). Христианство, начинающееся с проповеди воскресения воплощённого Бога и возможности телесного воскресения всех людей, задавало совершенно иной тон философствованию и практике «заботы о себе». Поэтому весь корпус антропологических понятий, концептуализирующих христианский аскетический опыт, питается совершенно иным, чуждым античному пониманием. Архм. Иануарий (Ивлиев), один из виднейших современных экзегетов, анализируя антропологические категории в посланиях апостола Павла, приходит к выводу, что центральным понятием в описании человеческого бытия является «тело»: «Мы не будем не правы, если мысленно будем заменять слово «тело» в его посланиях словами «человек», «индивидуум», личными местоимениями: моё тело = «я», его тело = «он» и т.д…. Тело – это человек в его цельности» (61, 20). В свою очередь, понятие «душа», как пишет архимандрит Иануарий, встречается крайне редко и вовсе нигде не противопоставляется телу в русле «эллинистического дуализма»: «Павел нигде не упоминает эллинистического воззрения о «бессмертии души» как некой освобождённой от телесности субстанции. Как и ветхозаветное nephesh , «душа» у него везде означает силу натуральной жизни, самое жизнь …» (61, 22). Целостное видение человека задаёт и другую стратегию аскетической «заботы о себе» и ставит другие цели перед подвизающимся в этой заботе. Если для античности «аскетическая брань» ведётся в русле освобождения бессмертной и чистой души из уз тленного и греховного тела, то христианская форма «заботы о себе» постулирует иные, экзистенциальные координаты и в конечном счёте исходит не из противоположности «душа/тело», а из противоположности «послушание/своеволие» (1, 24). Смена аскетических парадигм одновременно знаменует и смену путей познания истины: истину уже нет возможности обрести в себе, она перемещается к Другому .
Аскетический пафос подвига «марторес» легко интерпретировать как стремление освободиться от тела, опираясь на стереотип о «концептуальном сходстве» эллинистических и христианских практик аскезы. Но, как показал выше представленный анализ, отказ от физического существования связан с иным пониманием жизни; в этой перспективе самоотречение не является отречением от тела, а предстаёт как отказ от своеволия и обращение к послушанию Истине.
Неизбежность безбрачия для реализации евангельского идеала в христианской практике «заботы о себе», проговариваемая Фуко в его лекциях 1982 года, не соответствует истине, так как в цитируемом им трактате свт. Григория Нисского «О девстве» сам автор трактата признаётся в брачном образе жизни. С. Аверинцев пишет по этому поводу: ««Во всём каноне Нового Завета только единожды говорится о блаженстве девственников, «которые не осквернились с женами» (Отк. 14:4); в «Деяниях Павла и Феклы», осужденных Церковью, но чрезвычайно много читавшихся, эта тема с неослабевающим энтузиазмом трактуется чуть ли не на каждой странице…Церковные историки жалуются на увлечённых еретическими доктринами мужей, которые «изгоняли своих жён», и жён, которые «оставляя своих мужей, хотели жить целомудренно» – всё «вопреки церковному преданию и обычаю» (1, 24). Брачный образ жизни не был в презрении и отнюдь не противопоставлялся христианской аскетической «заботе о себе». Мотивы воздержания и целомудрия не противоречат призыву к «единомыслию душ и телес» (чинопоследование таинства брака). В Книге Деяний Апостольских Корнилий сотник, внимая голосу Ангела, призывает апостола Петра для того, что бы тот, изложил ему слова учения, через которые спасётся он и весь его дом (ср. Деян. 10: 6). Уже во время монашеское, согласно Древнему Патерику, некий монах пришёл на реку (вняв голосу свыше, сказавшему ему о том, что есть люди более совершенные в подвиге, чем он), где увидел двух женщин, стирающих бельё. На вопрос о том, в чём их добродетель, они со смирением ответили, что не знают за собой никаких подвигов. Их жизнь обычна и единственное, что они могут сказать, так это то, что, будучи замужем за двумя братьями, они живут мирно, в любви и единомыслии (50, 67). Этот пример характерен и помогает многое понять из того, почему христианская форма «заботы о себе» интерпретируется неадекватно. В связи с вышесказанным также становится ясной неадекватность разделения аскезы и любви как двух путей онтологической трансформации, о которых говорит Фуко. Это различие, существенное для античных практик «заботы о себе», теряет свою специфику в применении к аутентичному пониманию аскетического пафоса христианской «заботы о себе», выраженному в двух евангельских заповедях о любви к Богу и ближнему. Весь христианский аскетизм во всём разнообразии техник, методов и средств предстаёт лишь как средство онтологической трансформации субъекта для стяжания любви «не ищущей своего» (1Кор. 13).
Только после критического рассмотрения ряда стереотипов относительно христианского аскетизма как общехристианской установки можно приступить к анализу монашеской формы «заботы о себе». Лишь на основе понимания того, что христианская аскеза не связана с эллинистическим душепопечением как практикой освобождения от телесности или обретением спасения как «интенсификации связей со своим «Я», можно продолжить говорить о специфике христианской «заботы о себе». Также, не проводя глубинной границы между общехристианским аскетическим пафосом и монашеской аскезой, действительно начинающейся с безбрачия, можно приступить к анализу той формы «заботы о себе», которая сложилась в начале чётвёртого века в Египетской пустыне.
Монашеская форма «заботы о себе» в лоне христианского этоса возникает в IV веке. Прот. И. Мейендорф пишет: «Оно (монашество – А.С.) служило противовесом Церкви, погрузившейся в обывательскую дремоту…В течение Средних веков монахи на Востоке составляли элиту христианского общества» (90, 281). Это возникшее противостояние миру и тому духу обывательства и обмирщения, которые стали доминировать после признания христианства государственной религией, не было продиктовано презрением или отчуждением от него, но только желанием более сурового и строгого следования духу Евангелия. Современный христианский мыслитель Панайотис Христу так толкует мотивы и цели монашеского движения: «Дела этого мира затрудняют движения души, блага этого мира аккумулируются вокруг неё, засоряя её, и препятствуя её превращению в завершённую личность» (156, 31). Отказ от социальной активности и от любых форм внешнего соприкосновения с «этим миром» мотивирован глубокой экзистенциальной тревогой по отношению к спасению своей души. Желая спасения и видя сложность осуществления его в таком мире, который живёт не по евангельским законам, часть людей удаляется от мира ради обретения более подходящих условий для совершенствования и спасения души. Тот же автор указывает на то, что между домонашеской (мученической) эпохой и возникшим монашеским движением есть прямая преемственность и непосредственная глубокая связь: «В середине третьего века преследования христиан стали столь сильными, что многим из них пришлось покинуть города…Преследования прекратились, но многолетний образ уединённого от мирского общества существования, стал неотъемлемым элементом жизни части христиан. И это побудило их стать преследователями самих себя: они уходили в горы, подвергая себя лишениям и страданиям . Вместо «крови мучеников», которая проливалась от рук жестоких гонителей, они подвергали себя «душевному злостраданию», борясь против страстей и демонических сил» (курс. мой – А.С.) (там же). Тема «бескровного мученичества» как добровольно принятых на себя страданий ради Христа – одна из центральных в монашеской версии «душепопечения». Мотивация являлась не столько негативной – отречение от мира, презрение к социальной активности, – сколько положительной – стяжание более совершенной любви к Богу . Апостол Павел, указывая Коринфской общине на то, что не стоит гнушаться браком, лишь подчёркивает, что безбрачное положение есть лучшее условие для того чтобы «заботиться о Господнем» (1 Кор. 7: 32, 34). Именно этой более совершенной заботой о Господнем продиктовано монашеское движение как особая форма заботы, ставшая после мучеников
Фуко, проводя границу между стоическим и христианским аскетизмом, указывает разность векторов «внутреннего движения»: стоики движутся к себе, интенсифицируя внутренние связи со своим «Я», а христианство, наоборот, движется от себя в практике самоотречения. Но является ли стоический императив возвращения к себе, спасения себя чем-то исключительно положительным, а христианская тема «отречения от себя» проявлением декаданских настроений и исключительно негативной акцией? Некий страх, пронизывающий всю рациональную культуру, затмевает исследовательскую чуткость и стремление адекватно понять: куда движется в отречении от себя христианский подвижник? Можно ли представить это движение как некое саморастворение или полное самоуничтожение? Или же за срыванием масок «мнимых Я» раскрывается подлинная личность?
Существенной необходимостью в контексте нашего исследования является понимание различия в сотериологической и терапевтической перспективе между стоической заботой о себе и христианской аскетической практикой.
Монашеское движение начинается, как уже было сказано, с удаления в пустыню . Пустыня выступает как архетип, соединяющий в себе всё самое мрачное, злое и удалённое от Бога. В ней нет воды, она - место, переданное во власть диаволу. В этом традиция христианского монашества восходит не столько к практике античного анахорезиса, сколько к отшельничеству иудейских пророков, боровшихся с конформизмом иудейской религии (90, 280). Именно пророки создали «духовность пустыни» (там же). Эта внешняя среда в большей степени располагала к воспитанию той духовной настроенности, которая была необходима монаху. Монах – один, но его уединенность - не акт эгоцентрической обращённости в своё «Я», но выход к Богу, более интенсивное переживание общения с Ним, которого гораздо сложнее достигнуть «в миру». Монашество – это экзистенциальное мероприятие, суть которого - уединение-в-Боге . Наследование профетического служения ветхозаветных пророков явилось основанием для пустынножительства. Прот. И.Мейендорф пишет: «Пустыня, таким образом, является архетипическим символом мира враждебного Богу, подчинённого сатане, того мёртвого мира, которому Мессия принёс новую жизнь. И как пришествие Его впервые было провозглашено Иоанном Крестителем в пустыне, так и христианские монахи видели в своём бегстве в пустыню борьбу с властью лукавого и провозвестие Второго Пришествия» (90, 280).
Город утрачивает способность быть средой для христианской философии и движения к тому совершенству, к которому призывает практика «заботы о себе» в рамках христианского этоса. Если во времена Сократа именно агары – место для философствования и на них собираются те, кто ищет мудрости (даже ап. Павел читает проповедь перед афинской аристократией в Ареопаге), то для христианских искателей «плодов любомудрия» город как среда утрачивает качества и характеристику места, в котором возможно их обрести. Монахи удаляются в пустыню, и там формируется определённая атмосфера для «деятельного любомудрия» и практики «заботы о себе». В отношении же того, кто отныне является ищущим истину и желающим плодов философии, становится ясно: мантия философа сменяется чёрным облачением монаха. Под этим одеянием проходит жизнь в заботе о подлинных плодах философии. В качестве примера можно обратиться к достопамятным сказаниям о древних подвижниках благочестия, и там мы прочтём об авве Арсении Великом следующее. До обращения к монашеской жизни он был знатоком римской и греческой философии. Когда император Феодосий захотел найти учителя для своих детей (Аркадия и Гонория), то не нашёл никого лучше, чем Арсений. Однажды ночью во время своей службы у императора он услышал голос свыше: «Бегай людей и спасёшься». Вняв этому гласу, он оставил свою красивую одежду и, облачившись в невзрачное одеяние, отправился в пустыню, где и провёл всё своё существование, живя в безмолвии и молитвенном общении с Богом. В древнем «Патерике» рассказывается история о нём. Однажды он сидел и разговаривал с одним простецом о духовной жизни. К ним подошёл некий брат и спросил Арсения: «Зачем ты беседуешь с этим простецом, будучи сам знатоком философии?». На что авва ответил: «Да, я действительно знаю философию, но азбуки этого простеца ещё не изучил». Ведение в области античной рациональности не могло принести тех «плодов любомудрия», ради которых люди покидали города и поселялись в безводной, безлюдной пустыне со скудным питанием и монотонной жизнью. Этот короткий рассказ показателен. Свидетельство аввы Арсения можно и необходимо интерпретировать как недостаточность того опыта философствования (не только теоретического, но и практического), который был разработан в рамках античной философии, для стяжания «истинных плодов любомудрия». Об этом свидетельствуют не только «неучёные монахи» египетской пустыни, но и великие богословы от Афанасия Великого и Великих Капподокийцев до святителя Григория Паламы, слишком хорошо знавшие античную мудрость, чтобы недооценивать её. Этот уход от «рациональной метафизики», ярко явивший себя в подвиге «марторес» и затем ставший фундаментом для «бескровного мученичества» монашествующих, был связан с тем, что в мысли наступило то, что М.Хайдеггер в своём позднем творчестве назвал «событийным мышлением». Мысль, укоренённая в переживании личных отношений с Богом посредством опыта молитвы и церковных таинств, представляет любые рационально-теоретические спекуляции лишь как средство для прояснения и обобщения опыта жизни, но не как цель и смысл.
Монашество стало новой философией жизни, радикализовавшей общехристианские принципы «заботы о себе», задавая тон всему повседневному существованию того, кто посвятил себя деланию евангельских заповедей. Меняются установки и познавательные стратегии. «Забота о себе» в стоицизме фрагментарна: ей посвящают участки времени (утро и вечер), набор средств ограничен дискурсивными практиками и некой рациональной формой «внутреннего анахорезиса», включающей специфические рефлексии, размышление над собой, преодоление заблуждений, самонаблюдение и испытание совести на основе рациональных критериев «разумного устроения». Пребывающий в заботе сам устанавливает понимание того, куда он движется, ибо мудрецу никто не нужен для блаженной жизни (Сенека, Эпиктет). Фуко, желая подчеркнуть то, что философ, работая над собой, не пребывал в некой неясной озабоченности и что «забота о себе» в стоическом образе философского существования не была только лишь некой смутной и общей установкой, но представляла собой « тяжкий труд », пишет: «Такой труд (труд, связанный с «заботой о себе» - А.С.) требовал времени. И одна из серьёзных проблем культуры себя состояла в том, чтобы определить, какую часть дня или жизни следует ей отвести. Например, можно было утром или вечером некоторое время уделить погружению в себя и, сосредоточившись, обдумать предстоящие дела, припомнить полезные принципы, разобраться, как прошёл день» (139, 60). Существовала практика определённых отступлений от обычных дел и некоего полноценного уединения с собой, которое позволяло «вспомнить прошлое, вглядеться в картины минувшей жизни, почитать, познакомиться с наставлениями и примерами, которые окажут на душу благотворное влияние, наконец, избавившись от бремени излишеств, обрести искомые принципы разумного поведения» (там же). Из этого Фуко делает вывод о том, что «вокруг заботы о себе, таким образом, разворачивается бурная деятельность (как устная, так и письменная), в которой тесно переплелись работа над собой и общение с другими» (там же). Но, несмотря на внешнюю открытость другим и дискурсивный характер заботы, именно в уединении-в-себе и опоре на собственный разум - граница стоической мудрости. Интровертированное философствование стоика ограничивает себя изнутри своего же опыта, когда философ отворачивается от плохого «себя», чтобы вернуться к хорошему «себе» же. Это такой способ видеть, относиться, различать и т.п., в котором субъект философствования и истина, к которой он движется, находятся в некоем гомогенном пространстве имманентной субъективности. Все процедуры, которые субъект применяет в «заботе о себе», укоренены в рациональном и дискурсивном пространстве (пусть это пространство и становится фактически неотличимым от экзистенциальной сферы). Тяжесть этого дискурсивного творчества и связанных с ним аскетических намерений фактически не затрагивает той сути, с которой начинается истинный труд и подлинная борьба христианского подвижника, в которой он проводит всё время своей жизни (в идеале даже сон – пространство Богообщения).
Продолжая говорить о различиях, важно отметить, что «забота о себе» как спасение в христианском этосе не только не заключается в пространстве рационального, но она вообще фундирована иным основанием. Онтология спасения такова, что подвижник благочестия «включается» в процесс его спасения Богом, оказываясь участником Божественного домостроительства. Забота как спасение возможна только после того, как Бог сошёл с небес и воплотился «от Духа Свята и Марии Девы» - «нас ради человек и нашего ради спасения». В связи с этим происходит и своеобразная «переоценка ценностей» в «заботе о себе».
В заботе, понимаемой как спасение, заботящийся нуждается в Спасителе, в связи с чем структура заботы расширяется до отношений с Другим, а не только с самим собой. Набор рациональных рефлексий по-прежнему играет определённую роль, но теперь она только вспомогательная, а не приоритетная. Забота о душе встраивается в структуру взаимоотношений с другими, но не на той основе, которая имела место быть у Платона: заботящийся заботится о себе, но с тем чувством, что от этой индивидуальной заботы будет лучше всему полису. Экзистенциальные координаты движения заботы переходят из интровертированной формы философствования, укрываемого безраздельным авторитетом разума, в экстатическую форму отношений с Богом и ближними, основанных на «не ищущей своего» любви.
В этом смысле становится ясно, что тема самоотречения, которая играет существенную роль в христианской аскезе, – это не тема деперсонализации и десубъективации, но тема стяжания любви, которая «не ищет своего». Происходит отчуждение «заботы о себе» от автономно-эгоцентрического существования в самодостаточности и безмятежности ради онтологической трансформации, ориентированной на укоренение в бескорыстной любви к Богу и ближнему. Только в этой перспективе и на таком фундаменте возможна адекватная реконструкция сути христианской заботы о душе, ставящей перед собой цель её исцеления и спасения.
В связи с этой переориентацией и рекоординацией движения заботы возникает и определённая «внутренняя реформация» субъективности. Обратимся к классическому тексту сирийского подвижника аввы Исаака Сирина, текст которого может прояснить для нас то, каким образом это происходит. Различая самодостаточное отношение к себе и то отношение, которое возникает изнутри веры, авва Исаак пишет: «Ибо душа, однажды с верою предавшая себя Богу и многократным опытом изведавшая Его содействие, не заботится уже о себе, но связуется изумлением и молчанием, и не имеет возможности снова возвратиться к способам своего ведения и употребить их в дело, чтобы иначе, при их противлении, не лишиться Божия промышления, которое втайне неусыпно назирает над душею, печётся о ней, и непрестанно преследует её всеми способами, - не лишиться же потому, что душа обезумела, возмечтав, будто бы сама достаточно промышляет о себе, по силе своего ведения» (64, 173). В этом фрагменте лаконично и чётко проводится различие между двумя формами практического применения субъективности. Одна из них оценивается негативно - как «безумная» - и суть этого безумия состоит в том, что душа, утверждается в самопопечении и опирается на «силы своего ведения (знания)». Другая форма выражает суть христианской заботы в том, чтобы « не заботится уже о себе », потому как Божие промышление непрестанно «печётся» и «втайне неусыпно назирает над душою». Таким образом, для христианской «заботы о себе», более
исходной является установка «не-заботы» и «не-разумия». Не забота не означает бездействие, нерадение и праздность (вещи, осуждаемые во всех христианских аскетических текстах как негативные и греховные), но есть иная форма разумности, основанной на глубоком доверии Богу, промышляющему и спасающему душу заботящегося. Неведение не есть полное отречение от разума, но только от такого разума, который игнорирует попечение Бога и желает укореняться только в себе. Последнее названо в тексте «безумием» и «мечтательностью». Это изменение ума (аутентичный смысл понятия «покаяние») неизбежно в христианской практике «заботы о себе». Далее авва Исаак даёт определение того, что он понимает под ведением: «Оно не имеет власти что-либо делать без разыскания и исследования, а напротив того, разыскивает, возможно ли тому быть, о чём промышляет и чего хочет… Ведение без разыскания и без своих способов действования не может быть познано. И это есть признак колебания в истине» (там же). Забота, опирающаяся на веру, исходит из иной установки сознания: «Вера требует единого чистого и простого образа мыслей, далёкого от всякого ухищрения и изыскания способов…Дом веры есть младенческое понятие и простое сердце» (64, 174). Забота монаха укоренена в делании заповедей, исходя из глубокого доверия Спасителю. Отречение от надежды на свой разум, свои возможности связано с тем, что они явно недостаточны, чтобы осуществить ту онтологическую трансформацию, к которой призван христианин – воскресение в вечную жизнь, начало которого происходит в экзистенциальном пространстве «по сю сторону» физической смерти.
Надежда на воскресение – основа для аскетической практики в христианстве. Преодоление смерти – фундаментальная возможность. Но даже само понимание смерти разнится в стоической и христианской мысли. В текстах римских стоиков мы находим постоянное обращение к теме смерти как организующей и координирующей всю практику «заботы о себе», но эта тема является лишь поводом к «заботе о себе» и речь не идёт о каком бы то ни было включении самой темы смерти в практику «заботы о себе». Сенека призывает Луцилия к стяжанию такого устроения, при котором последний мог бы «равнодушно расстаться с жизнью», необходимо лишь научиться «безмятежно дожидаться последнего часа» (Письмо 4-е). Эпиктет на вопрос о том, полезна ли смерть, говорит, что «умирая может стать духом своим выше смерти, показать и себе и людям, что смерть не имеет надо мною власти» (162, 215). В другом месте он, советуя не беспокоиться по поводу приятного и неприятного, говорит, что и то и другое «окончится с твоею смертью» (162, 221). Более содержательно высказывается Марк Аврелий, делая ряд очень важных в понимании стоического отношения к смерти утверждений. Он призывает того, кто философствует, к безропотному ожиданию смерти как «простому разложению элементов, из которых слагается каждое живое существо». Смерть человека - всего лишь часть тех процессов изменения и превращения, которые происходят в природе, а «то, что согласно с природой, не может быть дурным» (86, 281). В другом месте он пишет, что более страшной, чем смерть, является потеря способности «уразумения и наблюдения вещей» (86, 282). В отношении того, какая участь ждёт человека по смерти, имеется явная неопределённость в суждении: «Если тебя ждёт другая жизнь, то, так как боги вездесущи, они будут и там. Если же это будет состояние бесчувственности, то тебе не придётся более терпеть от страданий и наслаждений и служить оболочке, которая настолько хуже того, кто у неё в плену. Ибо последний есть дух и гений, оболочка же – прах и тлен» (86, 282). Ещё одна характерная для стоического самочувствия цитата: «смерть есть одна из наших жизненных задач и для её решения достаточно надлежащего выполнения текущих дел» (86, 304). Ещё фрагмент: «Смерть уравняла Александра Македонского с его погонщиком мулов. Ибо они или были поглощены семенообразными потенциями, или же распались на атомы» (86, 308). И последний, самый яркий афоризм касается того, что сам автор даёт повод к проведению демаркационной линии между христианским и стоическим отношением к смерти, а главное, в этом же фрагменте с особенной туманностью и равнодушием описывает посмертную судьбу человека: «Душе, готовой ко всему, не трудно будет, если понадобится, расстаться с телом, всё равно, ждёт ли её угашение, рассеяние или новая жизнь (курс. мой – А.С.)» (86,350). Неопределённость и безразличие в отношении смерти удаляют стоическое мышление от изначально эсхатологически ориентированного христианского мышления, аскетический пафос которого целиком и полностью зависел от идеи телесного со-воскресения Христу-Спасителю.
Теперь необходимо увидеть всё это в сотериологической перспективе стоического философствования. Смерть – это «естественное», то, что принадлежит природе, и поэтому в согласии со стоической идеологемой – «живи в согласии с природой» – «забота о себе» отграничивается от темы смерти, утверждая лишь самый факт смерти. Эта тема влияет на тон философствования, задаёт его в виде «памяти смертной», но сама смерть есть именно часть природных процессов изменения и превращения, а потому находится вне контекста «заботы о себе» как то, что «от нас не зависит». Стоик относится к смерти как к чему-то внешнему, как к обстоятельству в ряду тех, которые «от нас не зависят», а, следовательно, не стоят внимания. В отношении же посмертной участи имеется либо неясность, либо тенденция воспринимать смерть как исчезновение того, кто заботился о себе. Из чего следует глобальная обращённость внутрь этой жизни (о чём и писал Фуко). Стоик заботится о некоем безразличии к смерти, которое дало бы возможность укрыться от страха перед ней . В итоге, несмотря на заявление Марка Аврелия о том, что смерть - одна из существенных задач заботящегося о себе стоика, она находится как бы вовне тех интересов, которые определяют и задают границы заботе. Забота стоика – страсти, их преодоление. Если смерть – природный закон, то страсти противоестественны и с ними нужно бороться, у них необходимо «отвоёвывать себя» (Сенека) и от них спасать душу (Эпиктет). Это разведение темы страстей и темы смерти позволяет нам сделать вывод о том, что психотерапия (как практика лечения, врачевания души) и сотериология (как учение о спасении души) в стоической практике «заботы о себе» тожественны, но это тождество замыкается внутри экзистенции человека, отрицая тему посмертной судьбы как реальную составляющую практики «заботы о себе» в целом. Забота о спасении души полностью совпадает с её исцелением. Исцелившись от различных душевных недугов и обретя полноценный и здоровый ум, стоический мыслитель достиг той цели, к которой он стремился – спас себя от противоестественного.
В христианстве перспектива совершенно меняется: мы обнаруживаем как тема смерти становится в самый центр «заботы о себе» – танатология напрямую связана с психотерапией и сотериологией. Смерть - это не то, что находится вовне, а то, что действует внутри через страсти. Смерть возникает как перспектива (в согласии с христианским богословием) после нарушения заповеди и добровольного удаления от общения с Богом. Смерть – одно из следствий грехопадения. О сообразности догматических истин и духовно-аскетических практик в христианской «заботе о себе» мы будем говорить далее. А сейчас нам нужно обратить внимание только на этот пункт - связь свободного удаления от Бога и возникнувшей смерти, ибо только из этой связи можно глубже уяснить интерпретацию Аверинцева о том, что христианская аскетика исходит из оппозиции «своеволие/послушание». Свт. Афанасий Великий пишет, что в первых людях «по истощании памяти о Боге и по уклонении к не-сущему (ибо злое есть не-сущее, а доброе есть сущее, как произошедшее от Бога), истощилось и продолжающееся навсегда бытие». И далее он уточняет причины такого положения дел: «Ибо человек, как сотворённый из ничего, по природе смертен; но, по причине подобия Сущему, если бы сохранил оное устремлением к Нему ума своего, мог замедлить в себе естественное тление, и пребыл бы нетленным» (7, 2). Анализируя данный фрагмент, нужно обратить внимание на следующее. Несмотря на естественность смерти с момента сотворения человека Богом, у него есть возможность быть нетленным при условии постоянной обращённости его ума к Богу – источнику бытия и вечной жизни. Смерть же
В этой перспективе можно увидеть теперь и подлинную суть монашеской (общехристианской в принципе) «заботы о себе». Как преступление заповеди и отказ от Богообщения привели к возникновению страстей и смерти, так и противное этому может привести к обратному. Исполнение заповедей, послушание (отказ от своей страстной природы, своеволия) и Богообщение (молитва, участие в таинствах) может и должно привести человека к подлинному бесстрастию, в котором корень вечной, нестареющей жизни.
Таким образом, наш анализ показал, что стоическое мироощущение, исходя из совершенно иных представлений о спасении и заботе о себе в целом, из иного представления о смерти и её несвязанности с темой страстности человеческой природы, задаёт такую форму самопопечения, которая во всех своих чертах резко отличается от того, что понимает под средствами, стратегиями и целями заботы о себе христианская аскеза. Стоики заботятся о себе, преодолевая только сам страх перед смертью и желая обрести внутреннее status quo . В свою очередь, христианская аскетическая практика, опираясь на истины Откровения о Боге и человеке, формирует такой тип аскетической психотерапии, в которой тема преодоления страстей как освобождения и исцеления человеческой личности от душевных недугов и болезней органически связана с сотериологическим мотивом заботы – реальным преодолением смерти и возможностью вечной жизни в Боге .
Спасение теперь не есть дело разумной человеческой воли, но синергийное со-работничество Бога и человека. В содействии воль – Божественной и человеческой – развёртывается и совершается дело спасения человеческой души. Во внутреннем делании теперь не доминирует размышление о себе (интроспекция) и самопознание, но тон задают молитва и Богопознание. Подвиг Богопознания – суть монашеского делания (архм. Софроний (Сахаров)). Область размышления, опирающегося на совокупность рациональных принципов, преобразуется в сферу общения с Богом, собирающим человека в целое и спасающим его. Единство тем спасения и исцеления и их связь с познанием истины отныне укоренены в подвиге деятельного любомудрия, суть которого - забота о подлинном общении с Богом, изнутри которого человек раскрывается как подлинное личностное бытие. Аскетические упражнения в добродетели для стоика, с его пониманием «заботы о себе», очень тонкой гранью отделены от того, что мыслится в стоицизме как цель этой заботы – спасение. Фуко восхваляет самоценность стоического спасения как некоего процесса возвращения к себе. Именно процессуальность спасения как имманентное средство-цель «заботы о себе» , а не его онтологическая трансцендентность – главная её ценность. Аскетическое усилие самоценно, ибо оно свидетельствует о том, что «я есмь» в стоицизме. В этом усилии, обращённом на «отвоёвывание себя» (Сенека), заключается большая часть «философского образа жизни» стоиков. Но вот что мы читаем у современного компилятора и подвижника православной Церкви, размышляющего об основах христианского подвижничества: «Наше понимание аскезы синтетически может быть определено как свободно-разумный подвиг и борьба за достижение христианского совершенства. Но совершенство, мыслимое нами, не заключено в тварной природе человека и потому не может быть достигнуто простым развитием возможностей этой природы, взятой в самой себе, в своей ограниченности…Посты, воздержание, бдения; суровый образ жизни, нищета, понимаемая как нестяжание, как нежелание «иметь», как свобода от власти над нами вещественного мира; послушание, как победа над своей «индивидуальной» волей и как одно из высоких и прекрасных выявлений нашей любви к Богу и ближнему…целомудрие как преодоление плотских «бессловесных» движений … - всё это может и должно быть разумным и свободным подвигом человека, но доколе не придёт всеутверждающее действие Божественной благодати, дотоле всё это остаётся лишь человеческим действием…» (116, 118).
Стоический философ ищет спасения в прояснении мыслей, в воспитании в себе правильных суждений, и потому сфера разумного и свободного подвига предстаёт как самодостаточная, а жизнь, устроенная на принципах согласия с природой и правильного размышления о себе, мире и других, есть истинная суть «заботы о себе». Сфера мысли должна быть «очищена» от заблуждений и стереотипов, смятения духа и влияния толпы, после чего объявится человек, правильно мыслящий о себе. Этот человек – стоик. Его цель правильно мыслить о себе и через это вернуться к себе и обрести себя. Автономия разума задаёт экзистенциальные координаты всем сотериологическим канонам и психотерапевтическим принципам. Человек, став по истине разумным, овладев правильным суждением и преодолев смятение относительно вещей, которые «от нас не зависят», обрёл себя как цель истинной философии. В христианской аскезе, особенно же в монашеской форме заботы, происходит определённая трансформация, которая зафиксирована в догматическом дискурсе богословия и закреплена в практических канонах, на которых выстраивается всё повседневное существование монаха и организуется его внутренние бытие. Происходит действительная «смена парадигм» в понимании опыта спасения. Место автономии разума занимает отношение с Другим. Только изнутри этого отношения возможно осмысление всей христианской проблематики, касающейся практик заботы о душе. В самом центре христианского подвига заботы о душе обретается новая реальность – внутреннее душе пространство личных отношений с Богом, в котором человек ведёт борьбу с грехом и собирает себя через исполнение заповедей в постоянстве аскетического подвига. Именно поэтому та сфера, где полновластным хозяином была рациональная мысль философа о себе, в монашеской заботе преобразуется в пространство молитвы . Крах автономного разума - не декаданс внутренней жизни, но её преображение в реальность общения с Другим. Архм. Софроний пишет: «… всё в нашем подвиге сводится к исканию слияния нашей воли и нашей жизни с волею и жизнью Самого Бога … и потому молитва есть вершина всех аскетических деланий; она есть центр, от которого всякое иное действие черпает свою силу и утверждение. В молитве – культура православного аскетизма достигает своего наивысшего проявления и совершенства» (116, 119).
Таким образом, делая ряд выводов, можно сказать, что «внутренний анахорезис» Марка Аврелия и других стоиков определен субъективной сферой. Их опыт «уединения в себе» полагает границу в самом себе. Здесь представляется возможным говорить о действительной экзистенциально-духовной ориентации философии вплоть до полного поглощения последней сферой «практических применений субъективности» (М.Фуко). Но какой бы степени и качества ни было это углубление, оно обречено на вращение в пространстве такого опыта, в котором разум «поглощён» самим собой. Отношение с самим собой - в центре внимания, ибо нет ещё опыта и не представляется возможным личное Богообщение. Для стоиков «Бог, судьба, провидение, воля Божия, природа со своими законами, получающими осознание в человеке и становящимися его свободной волей… совершенно одно и то же» (78, 109). Неясность и туманность трансцендентного Бога не предстаёт как некий «сотериологический фактор». Напротив, та практика внешнего и внутреннего анахорезиса, которая возникла как реакция на Откровение домостроительства спасения воплощённого Бога – это такой род опыта, который предстаёт как радикальная онтологическая трансформация персонального опыта спасения. Субъектцентрированная сотериология стоиков с их идеалом «всё благое во мне» и автономной аскетической практикой «заботы о себе» даже не затрагивает той сферы, в которой происходит становление и духовное возрастание христианского монаха-подвижника, также пребывающего в «заботе о себе». В последнем случае имеет место реальная онтологическая реорганизация аскетического опыта на принципах христоцентризма и синергии . Сама субъективность трансформируется, ибо существование субъекта предстаёт как иконичное. А потому наряду с субъективной сотериологией, раскрывающей суть тех стратегий и практик заботы, которые необходимо усвоить подвизающемуся ради истины, проясняется сотериология объективная, дискурс которой описывает то, что сделано и делается Богом, сошедшим с небес и воплотившимся « нас ради человек и нашего ради спасения». Корреляция экзистенциального отражения истины субъекта в самом себе и движения к ней сменяется совершенно иной формой «заботы о себе», основанной на откровении: истина моего бытия в Другом.
Гуманитарные науки ищут критерии, которые адекватно отражали бы всю сложность человеческой природы, в том числе ее метафизическую глубину, ее духовное измерение.
Недостаточность исходных положений современной философской антропологии, например биологической антропологии (А. Гелен, Г. Плеснер и др.), признается самими философами: «В известном смысле можно сказать, что здесь прорублена лишь одна просека в лесу сущностных черт и свойств человеческого существа. И хотя даются определенные образы человека, все они односторонние, а потому являются искаженными картинами, и ни разу дело не доходит до всеохватывающего определения человека» .
Кризис антропологии можно считать наследием XIX и XX столетий. В первой его половине господствовала так называемая «эмпирическая психология», которую точнее было бы назвать «психологией без души». Душа как понятие сугубо метафизическое отметалась, что называется, с порога. В результате явления душевной жизни теряли свое единство и глубину, лишались разума и смысла, рассматривались как бессвязный набор отдельных психических элементов – представлений, ощущений и т. п. Эта «ассоциативная» или «атомистическая» психология была развенчана во второй половине XIX века работами выдающихся психологов У. Джемса, А. Бине, А. Бергсона и других.
Развитие современной психологии во многом обусловлено замечательным открытием австрийского философа Ф. Брентано, который развил идею «интенциональности» (смысловой направленности) душевной жизни на предметный мир.
Влияние феноменологии интенционализма оказало влияние на труды Э. Гуссерля, К. Ясперса, Э. Кречмера и иных выдающихся философов. Они отвергли чисто натуралистическое понимание душевной жизни, справедливо усмотрев в ней явно выраженную сверхприродную, идеальную сторону. Возможность двустороннего взаимодействия между душевными (психическими и парапсихическими) и телесными явлениями стала очевидным фактом.
Если не «жизненная сила» («психея», «энтелехия», другие синонимы души), как думали виталисты, то, что же является общим у всех живых систем? Над этим вопросом постоянно «ломают голову» биологи. Пытаясь на него ответить, Ж. Моно в своей известной работе «Случай и необходимость» постулировал целесообразную организацию молекулярной природы и подчинение организации индивида некоему плану.
Эти и подобные концепции в современной психологии заставляют вспомнить древнее учение о душе, имеющее источником различные мировые религии.
В этой связи немаловажное значение представляет христианская антропология, традиционное учение Церкви о природе человека, равно как и христианская триадология (учение о соотношении и взаимообщении Трех Лиц Святой Троицы), которую можно рассматривать как идеальную модель для человеческого общежития.
Святой апостол Павел призывает христиан: «Преобразуйтесь обновлением ума вашего» (Рим. 12: 2), заботьтесь «иметь Бога в разуме» (Рим. 1: 28).
Не желая соперничать с наукой и не отвергая методологии научных исследований, Церковь в то же время сдержанно относится к их результатам, в чем можно было убедиться недавно на примере идентификации Туринской плащаницы.
Предлагая обязательные для верующих догматы, богословская мысль оставляет достаточно свободы для их интерпретации, а также допускает весьма различные и многообразные точки зрения по целому ряду промежуточных вопросов (так называемые «теологумены»).
Христианские мыслители, именуемые учителями Церкви, не оставили вполне разработанных и цельных систем антропологии. Но мы можем легко их реконструировать, извлекая те или иные суждения о человеке из разных сочинений, опираясь на богатейшую литературу по истолкованию Библии, а также, прежде всего, на тексты самого Священного Писания.
В Библии учение о происхождении человека (антропогония) и учение о его сущности (антропология) связаны воедино. Библейская антропология исходит из воззрения, что весь космос, весь тварный мир и венец природы – человек – созданы Высшим Творческим Началом – Богом.
Признание Бога в качестве целеполагающей причины творения принципиально недоказуемо, оно является предметом веры, характерной особенностью человека верующего; вера же как психологический феномен имеет исключительную устойчивость: «Существование Верховного Разума, а следовательно, и Верховной Творческой Воли, я считаю необходимым и неминуемым требованием (постулатом) моего собственного разума, так что если бы я и хотел теперь не признавать существование Бога, то не мог бы этого сделать, не сойдя с ума»,– писал выдающийся русский ученый Н.И. Пирогов.
Библия сообщает, что Бог создал человека в «шестой день» (шестой космический цикл) творения, по образу и подобию Своему (предшествующие циклы творения можно рассматривать как подготовительные этапы создания человека). Библия об этом повествует так: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою» (Быт. 2: 7).
Раннехристианские писатели, такие, например, как Ориген или епископ Лионский Ириней, считали, что «образ Божий» человеку дан, подобие же задано, его надлежит стяжать, в соответствии с заповедью Христа: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный» (Мф. 5: 48). (Отсюда идеал обожения у учителей Церкви– Макария Великого, Афанасия Великого и др.)
Создание тела и души – это как бы два момента, начальный и конечный, в сотворении первочеловека Адама. Библейское откровение оставляет открытым вопрос о возможной эволюции человека и ступенях этой эволюции. В этом плане возможно существование целого ряда самостоятельных научных гипотез, безотносительно к религиозным учениям.
Безусловно, несовместимым с библейской антропологией, однако, является взгляд на то, что человек лишь количественно, а не качественно отличается от так называемых «ближайших соседей» на ступенях эволюции.
Человек, созданный по образу и подобию Творца, для которого Бог сотворил мир, рассматривается в христианстве как венец творения. «Среди всего ранее сотворенного не было настолько ценного создания, как человек… он достойнее и величественнее всего остального… И не только достойнее, но и является хозяином всего, и все для него создано», – подчеркивает болгарский богослов IX века Иоанн Экзарх в своем весьма популярном в Киевской Руси сочинении «Шестоднев». Превосходство человека над всем сущим объясняется его одновременной принадлежностью двум мирам – видимому физическому и невидимому духовному (трансцендентному).
Мир человека (микрокосм) столь же целостен и сложен, как и мир природы (макрокосм).
В Библии с поразительной ясностью разграничены в человеке естественная (биологическая) и сверхъестественная (теологическая) сферы. К первой относится человеческое тело, генеалогия которого выводится непосредственно из природного вещества («земной персти»), подчинена законам животного бытия. Ко второй относится «душа живая», несущая печать Божественного Духа, так как Сам Бог «вдунул в лице его (человека. – Авт. ) дыхание жизни» (Быт. 2: 7).
Христианская антропология рассматривает человека прежде всего как явление духовного порядка, «загадочного пришельца», предназначенного к уходу в иной мир.
Следует сказать, что признание акта творения отнюдь не разрешает всех загадок человеческой природы, например связи человека с космической эволюцией, взаимосвязи физической и психической сферы (тела и души), в единстве которых человек представляет собой живое, целокупное существо, несмотря на означенную двойственность.
Дуализм человека, ограниченность его физической природы и устремленность его духа в бесконечность, – извечная тема поэзии:
Психическая жизнь человека сама по себе весьма подвижна и неустойчива, она похожа на быстротекущую реку, в которую невозможно войти дважды. Это область, в которой взаимодействуют тело и душа (дух); сами же они весьма устойчивы – в пределах земной жизни (тело) и даже в вечности (душа). Та неизменная устойчивость личности, которую мы подразумеваем под словом «я», создающая идентичность нашей индивидуальности, несмотря на постоянный поток сознания, смену впечатлений и ощущений, круговорот обмена веществ, эта устойчивость определяется с точки зрения христианской антропологии именно душой, нематериальным субстратом, в котором, упрощая проблему и выражаясь современным языком, заложена вся информация о нашем «я».
«Творческое слово», которое, по мысли святого Григория Нисского (IV в.), Бог первоначально вложил в мир и в человека, являлось нормой для их бытия. Эта норма была нарушена вследствие космической катастрофы – грехопадения прародителей (Адама и Евы), повлекшего за собой онтологическую поврежденность (падшесть) в человеке, распространившуюся на весь мир.
Профессор В.И. Несмелов в своем труде «Наука о человеке» (1906) дает интересную интерпретацию темы библейского грехопадения человека. Нарушение Божественной заповеди, вкушение от древа познания добра и зла явилось искушением пойти внешним путем для приобретения высшего ведения, попыткой взойти на высоту бытия без должных внутренних усилий.
В этом символическом образе заключена глубокая трагедия человека, приведшая его к утрате царственного положения в природе, к подчинению ее стихийным силам.
Отсюда контраст между первоначальным райским блаженством человека и дальнейшей борьбой за существование в человечестве, дошедшей до современного состояния, близкого к агонии: прибегая к научной терминологии, это состояние является возрастанием энтропии до некоего критического предела, по Тейяру де Шардену – это приближение к разрыву ноосферы.
Современному позитивизму до недавних пор оставалось чуждо (ибо требует не простого рационального понимания, но духовного постижения) христианское учение о «падшести», поврежденности, болезненности человека, а вместе с ним и всей природы, которая «совокупно стенает и мучится поныне», ожидая спасения от «славы детей Божиих» (Рим. 8: 21–22).
В настоящее время, ввиду глобального экологического кризиса, положение изменилось. Понятие глобальной аномалии, укоренившееся в современных научных представлениях, позволяет, в силу некоей расширенной аналогии, уяснить если не верность такой концепции, то хотя бы правомерность ее постановки.
В этом контексте вырисовывается общность судьбы всего человечества и общечеловеческая солидарность отдельных людей. В осознании и формулировке глобальной проблематики, предвосхитившей современную так называемую «философию космизма», безусловный приоритет принадлежит русской религиозной философии второй половины XIX века, в частности Н.Ф. Федорову и Вл. Соловьеву. Оба гениальных мыслителя, оказавшие влияние друг на друга, впервые с полной ясностью развили учение о том, что субъектом истории является человечество как целое.
Единство человечества обусловлено его единосущием, следствием сотворенности по образу и подобию Божию (см.: Вл. Соловьев. «Чтения о богочеловечестве»; Н.Ф. Федоров. «Философия общего дела»). Отсюда линии этого единства как в историософии, так и в космологии: человечество является особым образованием не только в историческом бытии, но и венцом природы в эволюционном плане, в биосфере и ноосфере (Тейяр де Шарден).
Свойственное православию эсхатологическое ожидание преображенного мира и вера в конечное обожение человека привлекли к христианской антропологии многих видных русских философов и общественных деятелей на рубеже XX века. Среди них назовем Н.А. Бердяева и С.Н. Булгакова, С.Л. Франка и П.Б. Струве, П.А. Флоренского и Л.П. Карсавина.
Парадокс христианства, как указывали многие видные религиозные мыслители, и прежде всего Н.А. Бердяев, заключается в том, что оно одновременно и исторично (ибо основано исторической Личностью – Иисусом Христом), и сверхисторично (имеет источником Божественное откровение и устремлено к Царству «не от мира сего»).
Творчество человечества венчает историю мира, потому что человек не утратил благодатных творческих даров Божиих, хотя и утратил свое богоподобие.
В центре внимания у Тейяра де Шардена – человек как венец творческой эволюции богосотворенной природы, вершина космогенеза и в то же время «руководящая сила всего биологического синтеза», устремленная к сверхличному началу – точке Омега, Абсолюту, Богу. Его натурфилософия естественным образом переходит в религию и даже в мистику, но это мистика знания.
В отличие от нее, православная антропология носит ярко выраженный христологический характер, основываясь, прежде всего, на догмате искупления рода человеческого воплотившимся Богочеловеком Иисусом Христом. Христос Своею крестной смертью снял с рода человеческого тяготевший над ним первородный грех. Спасительные плоды Его подвига усваиваются каждым человеком через крещение и другие церковные таинства.
Благодаря Боговоплощению и искуплению, дарованному Христом, стало возможно спасение и обожение человека и всей твари, всего космоса. В этом и состоит предназначение Церкви, ее вселенская миссия.
По формуле IV Вселенского (Халкидонского) Собора, Божественная и человеческая природа соединены в Иисусе Христе нераздельно и неслиянно, при наличии двух природ личность (ипостась) Богочеловека была одна. В каждом же из людей одна личность и одна природа. Различение природы и ипостаси (личности) весьма существенно для уяснения и раскрытия положения человека в мире, которое рассматривается в трех аспектах: 1) человек в его первозданном состоянии в раю; 2) человек после грехопадения и изгнания из рая; 3) человек после искупления, дарованного Христом.
Истинная природа человека, его роль и призвание в мире могут быть выявлены с точки зрения христианской антропологии лишь в связи и взаимозависимости всех этих трех аспектов. Здесь мы коснемся лишь второго аспекта, да и то в самых общих чертах. Как уже говорилось, хотя первородный грех исказил природу человека, но он не уничтожал в человеке высшей творческой силы, образа Божия, запечатленного во всей природе человека – и в теле, и в душе, и в духе.
Этот широко распространенный взгляд нуждается в корректировке, так как одни и те же богословы говорят и о двухчастности, и о трехчастности человека, а история патристики не знает спора дихо- и трихотомистов. Богослов В.Н. Лосский был убежден, что разница между сторонниками дихотомизма и трихотомизма сводится к терминологии: «дихотомисты» видят в духе высшую способность разумной души, посредством которой человек входит в общение с Богом .
Святой Афанасий Великий (IV в.) был убежденным трихотомистом и учил, что все духовно-душевно-телесное естество человека должно обожиться вследствие восстановленной богопричастности человека. Многие представители русского богословия так же понимали природу человека, в их числе свт. Тихон Задонский, свт. Феофан Затворник, а из современников – свт. Лука (Войно-Ясенецкий; 1877–1961).
В своей известной работе «О духе, душе и теле» архиепископ Лука аргументировал трихотомизм данными психофизиологии, парапсихологии и генетики. Он разработал учение о так называемых актах сознания, которые никогда не бывают изолированными, поскольку мысль сопровождается чувством, а волевые акты связаны не только с восприятиями физических органов, но и с восприятиями души и духа.
Архиепископ Лука доказывал, что дух может вести жизнь, раздельную от души и тела, ссылаясь на передачу наследственных свойств от родителей к детям, поскольку наследуются лишь основные «духовные» черты характера родителей, а не их чувственные восприятия и душевные воспоминания.
Он разделял взгляд на то, что животные тоже имеют душу, но подчеркивал, что у человека душа гораздо совершеннее, она обладает высшими дарами Святого Духа – разумением и познанием, творческим вдохновением, мудростью и др.
Самым значительным проявлением духовности в человеке, на наш взгляд, является совесть.
Совесть, неотъемлемое начало общечеловеческой нравственности, рассматривается христианской Церковью как голос свыше, присутствие Божие в душе человека.
Человек часто пытается заглушить этот голос, потворствуя своим страстям и корыстолюбию, но до конца его не может заглушить, пока в нем живет хоть какая-то человечность. Именно совесть является наиболее человеческим в человеке – в самом благородном значении этого слова.
Пока не удастся выработать и принять общегуманистические основы нравственности, единые для всего человечества, оно будет раздираться силами вражды и противоборства. Критерием такой нравственности, безусловно, может быть только совесть, как бы ее ни называть – «категорическим императивом» (Им. Кант) или голосом Божиим.
Без веры, совести и внутренней обращенности к Абсолюту сердце человеческое мятется, а ум бывает поглощен суетой: вместо разумения в нас проявляется рассудок, поглощенный самим собой; отсюда – эгоизм, взаимоотчужденность, чувство одиночества, отпадение от семьи, выпадение из общества. В творениях церковных писателей такое состояние именуется непросвещенностью и духовным помрачением.
Св. Андрей Критский (VII в.) в своем «Покаянном каноне» дал весьма впечатляющее определение этого состояния – человек поклоняется самому себе как идолу. Поистине, природа не терпит пустоты! – там, где нет обращенности к Источнику Света, сгущается мрак, царят различные идолы – «рода», «пещеры», «рынка», «театра» и всякие другие, которые, вероятно, и не снились автору «Нового Органона» Ф. Бэкону.
Служение этим идолам порождает культ ложных ценностей, приводит к насилию над человеком и обществом.
В нашей недавней истории пафос отрицания привел к самому чудовищному вандализму, уничтожению бессмертных творений человеческого гения. Для Церкви, по существу, неприемлемо всякое отрицание, даже так называемое «отрицание отрицания», этот хитроумный принцип диалектики, под которым может скрываться что угодно.
Зловещая практика XX века, чудовищный опыт нигилизма и дегуманизации, репродуцированный в будущее авторами-антиутопистами (О. Хаксли, Е. Замятин, Дж. Оруэлл), подтверждают давний взгляд на природу человека, выраженный в христианском богословии, что ее нельзя произвольно «улучшить» и «переделать» безблагодатными средствами.
Сложной, духовной по преимуществу природе человека противопоказано низведение ее запросов к социально-экономическим или так называемым «духовным», под коими обычно подразумеваются потребности интеллектуальные и культурные.
Для усовершенствования социума, правильного развития общественных отношений недостаточно использование одних лишь материальных и культурных факторов. Необходима особая забота о подлинно духовном, что в плане конвергенции общества и Церкви можно рассматривать как движение в сфере религиозного просвещения. Эта сфера издавна была предметом внимания церковных деятелей.
Не случайно в наше время в качестве исторической парадигмы вызывает определенный интерес положительная роль Церкви в отечественной истории. Нравственное влияние Церкви на человека в процессе формирования правового общества (которое гарантирует наряду с другими свободами и правами человека и религиозную свободу) может принести безусловную общественную пользу, и эта польза, на наш взгляд, будет иметь тенденцию к возрастанию.
У христианской Церкви есть огромный исторический опыт, со времен святого равноапостольного императора Константина Великого, который был выдающимся социальным реформатором и политиком. Он по достоинству оценил и использовал положительную нравственную роль Церкви в условиях перехода к новой общественной формации. Святой равноапостольный великий князь Владимир сыграл такую же роль в истории нашего Отечества.
Провозглашая и утверждая высшие духовные потребности человека, как имеющие вечный смысл, Русская Православная Церковь противостоит социальной энтропии, то есть тенденции любой общественно-экономической формации ставить превыше всего потребности социального регулирования. Такое регулирование всегда имеет место на той или иной стадии общественного развития, оно представляет лишь относительную ценность и вследствие несовершенства аппарата и инструментов регулирования обычно прибегает к мерам принуждения.
Церковь же по своей природе, как институт-посредник между людьми и Богом, основанный на евангельской любви, не может действовать принудительными средствами. Ее таинства и обряды имеют врачующую силу только в порядке добровольного употребления. Общество, впрочем, никогда не может стать идеальным, то есть вполне христианским, полностью свободным от зла и насилия (природа которых глубоко иррациональна), По отношению к злу и насилию необходимо принудительно-регулирующее начало, воплощением которого выступает государство.
Мы не разделяем двух крайних, противоположных точек зрения на значение социально-политического строя для нравственности человека. Первая полностью отрицает таковое, вторая полагает, что совершенный общественный строй «автоматически» устранит всякое зло и полностью усовершенствует человека. Не будем останавливаться на второй точке зрения, так как очевидно, что источником всякого нравственного добра является личность или коллектив личностей, при любом общественном строе.
Что касается первого воззрения, довольно распространенного среди части христиан, оно также не выдерживает критики: социальные реформы, усовершенствование общественного и государственного устройства объективно способствуют улучшению нравственности не только отдельных лиц, но и всего общества, об этом свидетельствует сама история.
Правовое, демократическое государство олицетворяет собой конструктивный, регулирующий принцип социальной жизни, предохраняющий общество, с одной стороны, от анархии, а с другой – от тирании и тоталитаризма. Сосуществование Церкви и государства, их взаимное невмешательство, сотрудничество и «симфония» являются условием нормального течения общественной жизни, раскрытия подлинно человеческого в человеке, то есть реализации идеалов гуманизма, следовательно, торжества нравственности.
Христиане при этом не забывают об эсхатологической устремленности самой истории за пределы времени, к жизни будущего века, к новой земле и новому небу.
Не отрицая относительной правды и справедливости, достижений современного правового государства, мы помним об их несоизмеримости с идеалами абсолютного добра; это «памятование» должно предохранить от ложных иллюзий построения «идеального» земного общества (что на практике грозит разрушением всего «неидеального», когда «цель оправдывает средства»). Ибо внешнее объединение людей на основе экономического коллективизма в самом хорошем правовом государстве все же не сможет устранить их внутренней отчужденности друг от друга. Только духовная солидарность людей, основанная на сознании братского, родового единства, общности происхождения и судьбы, поможет построить дом на твердом основании. В этом отношении именно Церковь способна помочь обществу, если само общество захочет воспользоваться этой помощью. Ибо в Церкви каждый ее член обретает подлинный опыт человеческого общения и постигает его непреходящий духовный смысл, заключенный в евангельской молитве Христа: «Да будет все едино» (Ин. 17: 21).
Разве не из религиозных заповедей пришли к нам моральные принципы, которые легли в основу всех «прав человека», призывов к гуманизации государства и общества? Разве не религия породила культуру как проявление особой формы духовности, присущей только человеку? Поистине, это cultura animi (развитие духа). Такая культура может и должна стать сферой сближения, взаимодействия и взаимообогащения Церкви и общества. Но для этого в церковной ограде должны найти себе место и храм, и приют милосердия, и духовная школа, и художественная студия.
В этом случае, как писал в свое время С.Н. Булгаков, социальная жизнь утратила бы свой прозаический оттенок, приобретя некую окрыленность и вдохновенный характер. «И жизнь и культура, освещенная внутренним светом, оказались бы светопроницаемы, полны света и жизни… Поэтому нужно любовно, без кичливости, но с христианским смирением открыть свое сердце «светскому» миру… И с той и с другой стороны должна быть признана обоюдная вина и принесена духовная жертва» .
Осознание этого в среде культурной общественности, как верующими, так и неверующими, – залог подлинного духовного обновления и консолидации всего российского общества. Лишь в единстве свободы и ответственности человек как подлинный homo sapiens реализует свое высокое призвание в мире.
Bollnow О.F. Die philosophische Antropologie und ihre methodischen Prinzipen // Philosophische Antropologie heute. Munchen, 1972. S. 25.